 |
Главная Случайная страница Контакты | Мы поможем в написании вашей работы! | |
4 страница. Говоря, что историк не в силах выскользнуть из условий своего формирования и среды, я не вовсе не имею в виду
|
|
Говоря, что историк не в силах выскользнуть из условий своего формирования и среды, я не вовсе не имею в виду, что он не в силах преодолеть индивидуальных, групповых или общих предвзятостей74 или не может пережить интеллектуального, морального или религиозного обращения. Опять-таки, я никоим образом не отзываю сказанного ранее об «экстатическом» характере развития исторического инсайта, о способности историка покидать точку зрения своего места и времени, чтобы понять и оценить ментальность и ценности другого
71 Ibid., S. 51.
72 Marrou, Meaning of History, p. 247.
73 Ibid., pp. 292 f.; cp. Smith, pp. 128, 130.
74 О предвзятости см. Insight, pp. 218—242.

 МЕТОД В ТЕОЛОГИИ
МЕТОД В ТЕОЛОГИИ
места и времени. Наконец, я не хочу сказать, что историки с разными условиями формирования и среды не могут понять друг друга и таким образом перейти от расхождения к сближению своих взглядов на прошлое75.
То, что я хочу выразить, называется перспективизмом. Если релятивизм утратил надежду прийти к истине, то перспективизм акцентирует сложность предмета, о котором пишет историк, а также специфическое отличие исторического знания от знания математического, естественнонаучного и философского. Он не замыкает историков в условиях их формирования и среды, не ограничивает их собственными предвзятостями, не отказывает им в доступе к развитию и открытости. Но он действительно указывает на то, что историкам с разными условиями формирования и среды придется избавляться от своих предвзятостей, переживать обращения, пробиваться к пониманию совсем других ментальностей, свойственных другим местам и временам, и даже более того — к пониманию друг друга, каждого на его собственный, особый манер. Историки могут исследовать одну и ту же область, но задавать разные вопросы. Где одинаковы вопросы, там могут различаться подспудные, определяющие контексты допущений и импликаций. Одни историки могут считать очевидным то, что другие тщатся доказать. Открытия могут быть равноценными, но подход к ним определяться разными комплексами предварительных вопросов, выраженных в разных терминах, а значит, ведущих к разным следствиям в виде дальнейших вопросов. Даже там, где результаты во многом совпадают, отчет о них может быть написан для разных читателей, и каждый историк должен будет уделить особое внимание тому, что может быть легко упущено или недооценено его читателями.
Таков перспективизм. В широком смысле этот термин можно отнести к любому случаю, когда разные историки по-разному рассматривают один и тот же предмет. Но его собственный смысл весьма специфичен. Он относится не к различиям, идущим от человеческой склонности заблуждаться, от ошибочных суждений о возможности, вероятности, факте или ценности. Он относится не к различиям, идущим отличной неадекватности, глупости, упущений, неспособности
ИСТОРИЯ И ИСТОРИКИ
или недобросовестности. Он относится не к истории как движущемуся процессу, не к тому постепенному завоеванию, которое открывает все новые пути в превращению потенциального свидетельства в формальное, а возможно, и актуальное свидетельство76.
В собственном и специфическом смысле перспективизм является результатом трех факторов. Во-первых, историк конечен, его информация неполна, его понимание не охватывает все доступные ему данные, его суждения не всегда надежны. Если бы его информация была полна, понимание всеохватно, а каждое суждение надежно, тогда в них не было бы места ни отбору, ни перспективизму. Тогда историческая реальность могла бы познаваться в ее строгости и в ее однозначных структурах.
Во-вторых, историк производит отбор. Главный элемент отбора — основанное на здравом смысле спонтанное развертывание понимания, которое может быть объективировано в его результатах, но не в его действительном протекании. В свою очередь, этот процесс обусловлен всем предшествующим развитием историка и его навыками, а относительно этого развития не может быть ни полной информации, ни полного объяснения. Коротко говоря, процесс отбора не подлежит объективированному контролю ни сам по себе, ни в своих начальных условиях.
В-третьих, нет ничего неожиданного в том, что процессы отбора и их начальные условия варьируются. В самом деле, историки — существа исторические, погруженные в движущийся процесс, в котором ситуации меняются, смыслы смещаются, а разные индивиды реагируют каждый по-своему.
Коротко говоря, сам исторический процесс, а внутри него — личностное развитие историка порождают ряд разных точек зрения. Разные точки зрения порождают разные процессы отбора. Разные процессы отбора порождают разные истории, которые (1) не противоречат друг другу, (2) не дают полной информации и полного объяснения, (3) но представляют собой неполные и приблизительные отображения бесконечно сложной реальности.
Означает ли это, что история — не наука, а искусство? Коллингвуд Указывает на три отличия исторического повествования от литера-
75 Marrou, Meaning of History, p. 235.
24O
Collingwood, Idea of History, p. 247; Marrou, p. 291.
 МЕТОД В ТЕОЛОГИИ
МЕТОД В ТЕОЛОГИИ
турного вымысла. Во-первых, историческое повествование рассматривает события, локализованные в пространстве и датированные во времени; в романе же места и даты могут быть фиктивными и очень часто действительно таковы. Во-вторых, все исторические повествования должны быть совместимы друг с другом и в тенденции соединяться в единый взгляд. В-третьих, историческое повествование на всяком своем шаге подкрепляется свидетельством, тогда как роман либо вовсе не ссылается на свидетельство, либо, если ссылается, эта ссылка, как правило, составляет часть вымысла77.
С другой стороны, история отличается от естествознания тем, что ее предмет отчасти конституирован смыслом и ценностью, чего нельзя сказать об объектах естественных наук. Она также отличается от наук о природе и человеке, взятых вместе, ибо ее результаты представляют собой описания и повествования, относящиеся к от-, дельным лицам, действиям, вещам, тогда как результаты названных выше наук притязают на универсальную значимость. Наконец, хотя и можно сказать, что история — это наука в том смысле, что она руководствуется определенным методом, что этот метод приводит к одним и тем же ответам всякий раз, когда задаются одинаковые вопросы, и что результаты исторических исследований имеют кумулятивный характер, все же приходится признать, что эти свойства метода реализуются в истории по-другому, нежели в естественных и гуманитарных науках.
Любое открытие представляет собой накопление инсайтов. Но в науках это накопление выливается в некую строго определенную систему, тогда как в истории оно выражается в описании и повествовании, относящимся к индивидуальному. Научная система может быть проверена бесконечным множеством способов, но описание и повествование, которые можно поставить под подозрение разными способами, по-настоящему проверяются только повторением исходного исследования. Прогресс в науке приводит к построению лучшей системы, но прогресс в исторических штудиях означает более полное и глубокое понимание более частных явлений. Наконец, ученый-естествоиспытатель может стремиться к более полному объяснению всех феноменов, потому что его объяснения суть законы и
77 Collingwood, Idea of History, p. 246.
ИСТОРИЯ И ИСТОРИКИ
структуры, под которые подпадает бесчисленное множество отдельных случаев; но историку, стремящемуся к полному объяснению всей истории, потребовалось бы больше информации, чем доступно, а затем потребовались бы бесчисленные объяснения.
Теперь вернемся на мгновение к тому видению истории, которое было общепринятым в начале XX столетия. Из всего сказанного явствует, что его ошибочность заключалась не в том, в чем усматривал ее Карл Хойси. Прошлое фиксировано, и его интеллигибельные структуры однозначны; но прошлое, которое таким образом фиксировано и однозначно, есть бесконечно сложное прошлое, которое историки познают лишь неполным и приблизительным образом. Именно неполное и приблизительное знание прошлого рождает пер-спективизм.
Наконец, утверждать перспективизм означает вновь отбросить ту точку зрения, что историк должен лишь рассказать все факты и предоставить им говорить самим за себя. Это означает вновь осудить историческую концепцию «ножниц и клея», вновь сожалеть вместе с А.-И. Марру об опустошении, произведенном позитивистскими теориями «научной» истории78. Но это также добавляет и новый момент: история говорит не только о прошлом, но и о настоящем. Историки устаревают для того, чтобы быть открытыми заново. Открытие заново находит их — если вообще находит — устаревшими более, чем когда-либо; но значение открытия заново заключается не в прошлом, о котором писал историк, а в собственном самораскрытии историка. Отныне его повествование ценится за то, что оно воплощает в себе собственную человечность автора, служит свидетельством из первых рук о самом историке, его окружении, его времени79.
6. ГОРИЗОНТ
Сэр Льюис Нэмир описал чувство истории как «интуитивное понимание того, как не происходили события»80. Он имел в виду, разумеется, тот случай, когда такое интуитивное понимание является плодом исторического исследования; но мы теперь обращаемся к
78 Marrou, Meaning of History, pp. 10 f., 23, 54, 138,161 f., 231.
79 Ibid., p. 296.
Cm. Stern, Varieties, p. 375.
^43

 МЕТОД В ТЕОЛОГИИ
МЕТОД В ТЕОЛОГИИ
горизонту, а это направляет наше внимание к предпониманию, которое историк выводит не из исторического исследования, а из других источников.
На этом вопросе Карл Беккер остановился в докладе, прочитанном в Корнельском университете в 1937 г. и в Принстоне в 1938 г. Тема доклада — правило Э. Бернхайма, согласно которому факт может быть установлен показаниями по меньшей мере двух независимых и не заблуждающихся свидетелей. Рассматривая каждый термин в этом правиле, Беккер сосредоточивается на вопросе о том, не считают ли историки свидетеля заблуждающимся не в силу его взволнованности, эмоциональной вовлеченности или слабой памяти, но исключительно в силу того, что сам историк имеет собственный взгляд на то, что возможно, а что невозможно. Ответ Беккера утвердителен. Когда историк убежден, что событие невозможно, он всегда будет твердить, что свидетели заблуждаются, будь их два или две сотни. Другими словами, у историков есть свои предубеждения — если не относительно того, что должно было произойти, то, по крайней мере, относительно того, что произойти не могло. Эти предубеждения не выводятся из изучения истории, а рождаются из тех мнений, той атмосферы, в которой историк живет и откуда он незаметно для себя заимствует некоторые твердые убеждения относительно природы человека и мира. После того, как эти убеждения укоренились, историку легче поверить в недостоверность сколь угодно большого числа свидетельств, чем допустить, что невозможное действительно
Й1
произошло.
Открытое признание того факта, что у историков имеются идеи-предубеждения, и что эти идеи оказывают влияние на историю, которую пишут историки, вполне согласуется не только с тем, что бьио сказано выше о взглядах Беккера, но и с тем, что сказали мы сами о горизонте и смысле. Каждый из нас живет в мире, опосредованном смыслом, в мире, выстроенном на протяжении многих лет общей суммой нашей сознательной интенциональной деятельности. Этот мир определяется не только конструктивными деталями, но и процедурами базового выбора. Когда такой выбор сделан и положен в основание постройки, его следует придерживаться — или же от-
81 Smith, Carl Becker, pp. 89-90.
ИСТОРИЯ И ИСТОРИКИ
ступиться от него, снести постройку и строить заново. Такую радикальную процедуру начать нелегко, осуществлять тяжело, доводить до завершения — долго. Она сравнима с радикальной хирургической операцией, а большинство из нас смотрит на скальпель с робостью и орудует им неловко.
Итак, историк занимается тем, что расширяет свой опосредованный смыслом мир, обогащает его человеческим, прожитым, частным. Его исторические вопросы в значительной мере относятся к деталям, но в них могут затрагиваться и вопросы принципиальные, определяющие базовый выбор. Возможны ли чудеса? Если историк строит свой мир, исходя из того, что чудеса невозможны, как ему быть со свидетельствами, подтверждающими факты совершения чудес? Очевидно, он должен либо отступиться и перестроить свой мир по новым правилам, либо посчитать этих свидетелей некомпетентными, нечестными или заблуждающимися. Беккер был совершенно прав, когда говорил, что последнее легче всего. Он был совершенно прав, когда говорил, что число свидетелей не имеет значения. Действительно имеет значение лишь одно: много их или мало, свидетели чудес могут существовать в мире этого историка лишь в том случае, если они объявляются некомпетентными, нечестными или, по крайней мере, заблуждающимися.
Более четверти века назад в очерке «Отстраненность и написание истории» Беккер выразил полное осознание того, что, о какой бы отстраненности ни заявляли историки, они не отстранены от доминирующих идей своего собственного века82. Они отлично знают, что никакой объем свидетельств не установит о прошлом того, чего не обнаруживается в настоящем83. Аргумент Юма в действительности вовсе не доказывает, что чудес никогда не было. На самом деле он доказывает, что историк не может внятно разбираться в прошлом, если прошлое осталось для него невнятным84. Чудеса исключаются потому, что они противоречат тем законам природы, которые в поколении этого историка считаются установленными; но если ученые-
&г Becker, Detachment and the Writing of History, p. 25. 83 Ibid., p. 12.
Ibid., p. 13.
МЕТОД В ТЕОЛОГИИ естественники найдут для них место в опыте, то найдутся также исто-
ос
рики, которые восстановят их в истории.
Что справедливо для вопросов о фактах, справедливо и для вопросов об интерпретации. Религия в XX в. сохраняется, но больше не объясняет средневекового аскетизма. Монастыри ассоциируются не столько со спасением души, сколько с приютом для странников и осушением болот. Св. Симеон Столпник не есть нечто физически невозможное: наряду с одноглазыми чудищами и странствующими рыцарями он может вписаться в мир ребенка; но его мотивы лежат за пределами взрослого опыта и, скорее всего, будут объявлены патологическими86.
Тезис Беккера о том, что историки работают в свете заранее принятых идей, подразумевает отказ от просвещенческого и романтического идеала беспредпосылочной истории87. Конечно, этот идеал имеет то преимущество, что изначально исключает все заблуждения, которые историк унаследовал от родителей и учителей, а также всё, что было порождено его собственной невнимательностью, недальновидностью, недалекостью. Но остается фактом, что, если математики, естествоиспытатели и философы опираются на предпосылки, которые они могут прямо признать, то историк работает в свете своего целостного личностного развития, а это развитие не допускает полного и прямого формулирования и признания88. Сказать, что историк должен работать без предпосылок, равнозначно тому, чтобы утверждать принцип пустой головы, требовать, чтобы историк не получал образования, изымался из процессов, именуемых по-разному — социализацией или аккультурацией89, — дабы освободиться от историчности. Ибо предпосылки историка — это не только его личные предпосылки, но проживаемые в нем результаты развития, которые человеческое общество и культура медленно накапливали в течение столетий90.
85 Ibid., р. 13 f.
86 Ibid., p. 22 f.
87 Ср. Gadamer, Wahrheit, SS. 256 ff.
88 Cm. Insight, p. 175.
89 Cm. P. Berger, T. Luckmann, The Social Construction of Reality, Garden City,
N.Y.: Doubleday, 1966.
9° Gadamer, Wahrheit, S. 261.
ИСТОРИЯ И ИСТОРИКИ
Ньюмен заметил по поводу методического сомнения Декарта, что было бы лучше во все верить, чем во всем сомневаться. Ибо универсальное сомнение не оставляет человеку основы для продвижения вперед, тогда как универсальное верование может заключать в себе и некоторую истину, которая со временем и постепенно вытеснит заблуждения. Сходным образом, думаю, мы должны довольствоваться тем, чтобы позволить историкам быть образованными, социализированными, аккультурированными, историческими существами, даже если это вовлекает их в некоторые заблуждения. Мы должны позволить им писать их истории в свете все того, чтб они знают или думают, что знают, и в свете всего, чтб они незаметно для себя принимают как само собой разумеющееся. Поступать иначе они не могут, а плюралистичное общество позволяет им делать то, чтб они могут. Только не нужно заявлять, что они пишут беспредпосылочную историю, ибо этого не может никто. Мы должны признать, что допущение истории, написанной в свете заранее принятых идей, может иметь результатом разные понимания истории, разные методы исторического исследования, непримиримые точки зрения и несовместимые исторические повествования91. Наконец, мы должны искать методы, которые помогут историкам с самого начала избежать непоследовательных допущений и процедур, и мы должны развивать методы более высокого уровня, которые послужили бы средством сглаживания различий после того, как несовместимые истории будут написаны.
Но в данной главе мы можем лишь признать существование этих потребностей. Ответить на них — дело не функциональной специализации «история», а дальнейших специализаций — диалектики и Фундирования. Ибо любое заметное изменение горизонта совершается не на основании этого же самого горизонта, а через усмотрение совсем иной и, на первый взгляд, непостижимой альтернативы, за которым следует обращение.
7. ЭВРИСТИЧЕСКИЕ СТРУКТУРЫ
Имеются ли у историка философские предпочтения? Прибегает ли он к аналогиям, использует ли идеальные типы, следует ли опре-
91 Напротив, перспективизм (в нашем понимании этого термина) подразумевает разные, но не несовместимые истории.

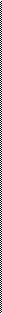
 МЕТОД В ТЕОЛОГИИ
МЕТОД В ТЕОЛОГИИ
деленной теории истории? Должен ли он объяснять, исследовать причины, определять законы? Стремится ли он к некоторым социальным и культурным целям, подвержен ли кренам или беспристрастен? Свободна ли история от ценностного подхода или связана с ценностями? Что присуще историкам — знание или верование?
Таковы возникающие вопросы. Они относятся не только к тому, как историк представляет себе историю, но и к практике исторического исследования и написания истории. Соответственно, разные ответы будут производить изменения в той или иной эвристической структуре92, то есть в том или ином элементе исторического метода.
Во-первых, историку вовсе нет нужды иметь дело с философией в том общем, но слишком широком смысле, который подразумевает содержание всех книг и курсов, претендующих называться философскими. Нет таких резонов, по которым историку нужно было бы пробираться через этот лабиринт.
Однако существует вполне реальная связь между историком и философией, если понимать «философию» в предельно узком смысле, а именно, как набор реальных условий возможности исторического вопрошания. Эти реальные условия суть человеческий род, останки и следы прошлого, сообщество историков с его традициями и инструментами, выполняемые историками сознательные интен-циональные операции, особенно в том, что касается исторического исследования. Следует заметить, что релевантными являются именно условия возможности, а не гораздо более широкий и вполне определенный набор самих возможностей, обусловливающий в каждом конкретном случае историческое исследование.
Коротко говоря, история относится к философии, как исторический метод относится к трансцендентальному методу или, в свою очередь, как богословский метод относится к трансцендентальному методу. Историк может знать или не знать об этом отношении. Если он о нем знает, тем лучше. Если не знает, он, тем не менее, может быть превосходным историком, подобно тому, как г-н Журден мог говорить на превосходном французском, не ведая, что говорит прозой. Но, будучи превосходным историком, он вряд ли сможет рас-
92 Об эвристических структурах см. Insight, Index s.v. Heuristic. Заметим, что «эвристический» имеет тот же корень, что «эврика».
ИСТОРИЯ И ИСТОРИКИ
суждать о собственных процедурах в историческом исследовании, не угодив в те ловушки, примеры которых мы привели в этой главе.
Во-вторых, очевидно, что историк, обращаясь от настоящего к прошлому, вынужден прибегать к своего рода аналогии. Проблема в том, что этим термином обозначаются самые разные процедуры, от предельно надежных до обманчивых. Соответственно, необходимо проводить различение.
Вообще говоря, настоящее и прошлое называются аналогичными, когда они отчасти похожи, а отчасти не похожи. Далее, вообще говоря, прошлое считается похожим на настоящее, за исключением тех случаев, когда имеется очевидное свидетельство его непохожести. Наконец, в той мере, в какой историк опирается на свидетельство непохожести, он рассказывает историю; но в той мере, в какой он утверждает, что должна быть похожесть или не может быть непохожести, он либо выводит это из тех мнений, в атмосфере которых живет, либо представляет некую философскую позицию.
Далее, не нужно считать, что настоящее известно полностью и целиком. Напротив, мы доказывали на всем протяжении этой работы, что панорамного видения исторического периода следует ожидать не от современников, а от историков. Более того, хотя историк вынужден выстраивать свои аналогии, опираясь прежде всего на знание настоящего, он может таким образом изучить историю и затем выстраивать дальнейшую историю по аналогии с познанным прошлым.
Далее, природа неизменна, тогда как социальные установления и культурные интерпретации подвержены изменениям. Имеются доступные свидетельства того, что исторический метод высветит еще больше различий. Порой мы слышим, что прошлое должно согласовываться с опытом настоящего, но по этому поводу Коллингвуд высказывается весьма саркастически. Древние греки и римляне контролировали численность населения, бросая на произвол судьбы новорожденных младенцев, и этот факт не становится сомнительным оттого, что лежит за пределами повседневного опыта авторов «Кембриджской истории Древнего мира»93.
Далее, хотя возможность чудес и их совершение — темы не методолога, а теолога, могу заметить, что единообразие природы мыслилось в разные времена по-разному. В XIX в. считалось, что законы
93 Collingwood, Idea of History, p. 240.

 МЕТОД В ТЕОЛОГИИ
МЕТОД В ТЕОЛОГИИ
природы выражают необходимость, и мнение Лапласа о том, что из некоторой данной стадии процесса теоретически возможно вывести весь ход событий, воспринималось всерьез. Теперь же законы классического типа считаются не необходимостями, а верифицированными возможностями; они обобщаются на основе того принципа, что сходное понимается сходным образом, и служат основанием для предсказания или дедукции не сами по себе, а лишь будучи встроены в некие повторяющиеся схемы. Эти схемы функционируют конкретным, не абсолютным образом, но только при равенстве прочих условий; а остаются ли прочие условия равными, это вопрос статистической вероятности94. Очевидно, что позиции науки в отношении чудес пошатнулись.
Наконец, хотя каждому историку приходится работать, исходя из аналогии между тем, что ему известно о настоящем, и тем, что он узнал о прошлом, диалектическое противостояние между противоречивыми историями все же нуждается в общепринятом основании. Основанием, которые предложили бы мы, служит трансцендентальный метод, распространенный на методы теологии и истории посредством конструктов, выведенных из самого трансцендентального метода. Другими словами, нечто вроде того, что мы разрабатываем в этих главах. Люди, занимающие иные философские позиции, предложили бы, несомненно, альтернативные решения. Но эти альтернативные решения лишь послужили бы дальнейшему прояснению диалектики расходящихся линий разыскания, интерпретации, истории.
В-третьих, используют ли историки идеальные типы? Сразу замечу, что понятие идеального типа и его употребление обычно ассоциируется с именем немецкого социолога Макса Вебера, но в строго историческом контексте идеальные типы обсуждал, помимо прочих авторов, А-И. Марру.
Идеальный тип — это не описание реальности или гипотезы относительно реальности. Это теоретический конструкт, в котором возможные события интеллигибельно связаны между собой и образуют внутренне последовательную систему. Она полезна одновременно с эвристической и с объяснительной точек зрения, поскольку подсказывает и помогает сформулировать гипотезы, а когда конкретная си-
94 О таком понимании науки см. Insight, chap. 1-4.
ИСТОРИЯ И ИСТОРИКИ
туация приближается к теоретическому конструкту, может направлять анализ ситуации и способствовать ее ясному пониманию95.
А.-И. Марру приводит в качестве примера идеального типа книгу Фюстеля де Куланжа «La cite antique»*. Полис понимается в ней как конфедерация крупных патриархальных семей, объединенных во фратрии, а затем в племена; она скреплена культом предков или героев и обладает общим центром, вокруг которого сосредоточивается ее практическая деятельность. Но такая структура имеет основанием не отбор того, что является общим для всех отдельных античных полисов или большинства из них, а сосредоточение на самых показательных случаях, а именно, тех, которые наиболее прозрачны и обладают наибольшей объяснительной силой. Использование таких идеальных типов двойственно. В той мере, в какой историческая ситуация отвечает условиям идеального типа, она получает от него объяснение. В той мере, в какой она не отвечает условиям идеального типа, она высвечивает конкретные отличия, которые в противном случае не были бы замечены, и побуждает задавать вопросы, которые в противном случае, возможно, не были бы заданы96.
А.-И. Марру одобряет применение идеальных типов в историческом исследовании, но высказывает два предостережения. Во-первых, это всего лишь теоретические конструкты: нужно удерживаться от соблазна восторженности, ошибочно принимающей их за описание реальности. Даже когда они в самом деле схватывают в основных чертах историческую реальность, не следует легко довольствоваться ими, затушевывать их несообразности, сводить историю к тому, что, по существу, представляет собой абстрактную схему. Во-вторых, не так легко разработать адекватный идеальный тип: чем богаче и насыщеннее конструкт, тем сложнее его применить; чем он схематичнее и неопределеннее, тем от него меньше пользы для истории97.
Наконец, я бы предложил рассматривать в качестве источника идеальных типов «Изучение истории» Арнольда Тойнби. Сам Тойнби
95 Max Weber, The Methodology of Social Sciences, New York: Free Press, 1949,
PP. 89 ff.
* Фюстель де Куланж Н.Д. Гражданская община древнего мира. Пер. с франц. Под ред. Д.Н. Кудрявского. СПб., 1906. — Прим. пер.
96 Marrou, Meaning of History, pp. 167 ff.
97 Ibid., pp. 170 ff.
 МЕТОД В ТЕОЛОГИИ
МЕТОД В ТЕОЛОГИИ
соглашался с тем, что его труд вовсе не так эмпиричен, каким он его задумал. Столь решительный критик, как Питер Гейл98, в то же время считал этот труд чрезвычайно стимулирующим и признавал, что столь отважные и творческие умы, как Тойнби, призваны выполнять существенно важную функцию". Эта функция состоит, полагаю, в том, чтобы доставлять материалы, из которых могут быть выведены тщательно сформулированные идеальные типы.
В-четвертых, следует ли историк определенной теории истории? Под теорией истории я понимаю не приложение к истории некоторой теории, установленной научным, философским или богословским методами. У таких теорий есть свой способ легитимации; о них надлежит судить по их собственным заслугам. Они расширяют знание историка и придают большую точность его суждениям, не создавая исторического знания, но способствуя его развитию. Но я понимаю под теорией истории такую теорию, которая идет дальше ее научного, философского или богословского основания и высказывает утверждения о действительном ходе человеческих дел. Такого рода теории формулировал, например, Брюс Мазлиш при обсуждении великих умозрительных концепций, от Вико до Фрейда100. Их следует критиковать в свете их научных, философских или богословских оснований. В той мере, в какой они способны устоять перед такой критикой, они полезны как идеальные типы крупной формы101 и могут употребляться с учетом предостережений, уже высказанных относительно использования идеальных типов. Но они никогда не схватывают вполне всей сложности исторической реальности, а значит, имеют тенденцию резко высвечивать одни аспекты и взаимосвязи и оставлять в тени другие, столь же или даже более важные. Как говорит А.-И. Марру, «самая изобретательная гипотеза... подчеркивает красным карандашом некоторые из линий, затерянных на диаграмме, где тысячи кривых пересекают друг друга во всевозможных
Дата публикования: 2014-11-18; Прочитано: 304 | Нарушение авторского права страницы | Мы поможем в написании вашей работы!
