 |
Главная Случайная страница Контакты | Мы поможем в написании вашей работы! | |
2 страница. Ранее в этой главе мы заметили, что историческое вопрошание предполагает историческое знание, и чем больше это знание
|
|
Ранее в этой главе мы заметили, что историческое вопрошание предполагает историческое знание, и чем больше это знание, чем больше данных входит в кругозор историка, тем больше вопросов он может задать, и тем умнее будут его вопросы. Так наше рассмотрение
* Карл Хойси (1877—1961) — немецкий исследователь истории Церкви. — Прим. пер.
lo Karl Heussi, Die Krisis des Historismus, Tubingen: Mohr, 1932, S. 58.

 МЕТОД В ТЕОЛОГИИ
МЕТОД В ТЕОЛОГИИ
совершает полный круг: мы приходим к отчету об этом предполагаемом историческом знании. Оно представляет собой критическую историю второго порядка. По существу, она состоит в кумулятивных трудах историков, но — актуально — не просто в доверии к этим трудам, а в их критической оценке. Такая критическая оценка порождается критическими рецензиями на книги, критическими высказываниями профессоров перед своими студентами, и подтверждается их разъяснениями и аргументами, свободными обсуждениями в неформальной обстановке и более формальными дискуссиями на конгрессах.
Критическая история второго порядка имеет составной характер. В ее основе — исторические статьи и книги. Ее второй уровень образуют критические тексты, сравнивающие и оценивающие исторические работы: они могут варьироваться от кратких обзоров до обширных исследований, вплоть до истории и историографии по определенному вопросу, вроде книги Герберта Баттерфилда «Георг III и историки»". Наконец, существуют обоснованные критические мнения профессиональных историков об историках: мнения, влияющие на работу историков, их замечания при обсуждении, процедуры написания работ на близкие темы.
Прежде чем завершить этот раздел, будет полезным напомнить, в чем конкретно состоит наша цель и забота. Она непосредственно ограничивается функциональной специализацией «история». Мы исключили все, что принадлежит к функциональной специализации «коммуникации». Я не сомневаюсь в том, что историческое знание подлежит сообщению, и не только профессиональным историкам, но и, в определенной мере, всем членам исторического сообщества. Однако прежде чем удовлетворить эту потребность, историческое знание еще нужно приобрести и поддерживать на современном уровне. Настоящий раздел был посвящен первой задаче: установлению того, какой набор и какая последовательность операций обеспечива-
11 Herbert Butterfield, Georg HI and the Historians, London: Collins, 1957. О разнообразии точек зрения на историю историографии см. Carl Becker, «What is Historiography?», The Amercian Historical Review, AA (1938), 20—28; reprinted in: Phil. L. Snyder (ed.), Detachment and the Writing of History, Essays and Letters of Carl L. Becker, Cornell University Press, 1958.
ИСТОРИЯ
ют ее выполнение. Принято считать, что к ней лучше всего подступаться, не преследуя никаких собственных целей: во всяком случае, вовсе не они были моим главным резоном при различении между функциональными специализациями «история» и «коммуникации». Мой главный резон заключается в том, что эти специализации подразумевают разные задачи, решаемые разными способами, и пока их различие не будет признано и удержано, нельзя будет прийти к точному пониманию каждой из этих задач.
Опять-таки, для теоретиков исторического знания привычно сталкиваться с проблемами исторического релятивизма, отмечать влияние, которое оказывают на исторические труды взгляды историка на исторические возможности, его ценностные суждения, его Weltanschauung [мировоззрение], Fragestellung [способ постановки вопросов] или Standpunkt [исходная позиция]. Я опустил рассмотрение этого момента не потому, что не считаю его крайне важным, а потому, что он уже находится под контролем, и не только технических приемов критической истории, но и технических приемов нашей четвертой специализации — диалектики.
Стало быть, цель этого раздела строго ограничена. Она предполагает, что историку известно, как нужно вести разыскание и как нужно интерпретировать смысл документов. Она оставляет другим специализациям некоторые аспекты проблемы релятивизма, а также важную задачу — выявить степень влияния исторического знания на современную политику и практику. В нашу цель входило лишь сформулировать набор процедур, которые caeteris paribus [при прочих равных условиях] доставляют историческое знание; объяснить, каким образом это знание возникает, в чем оно состоит, и каковы его внутренние ограничения.
Хотя я был вынужден признать, что технические ресурсы критической истории не позволяют решить задачу полного устранения исторического релятивизма, я тем решительнее утверждаю, что они позволяют осуществить и действительно осуществляют его частичное устранение. Я настаивал и настаиваю на том, что критическая история — это не вопрос доверия к надежным свидетельствам, а вопрос открытия того, что до сих пор присутствовало в опыте, но не было надлежащим образом познано. В этом процессе открытия мы выявили не только его евристический, избирательный, крити-

 МЕТОД В ТЕОЛОГИИ
МЕТОД В ТЕОЛОГИИ
ческий, конструктивный аспекты и аспект суждения, но и аспект экстатический, отменяющий ранее принятые перспективы и мнения, чтобы заменить их новыми, возникающими из кумулятивного взаимодействия данных, вопрошания, инсайта, догадок, образов и очевидных свидетельств. Именно так сама критическая история продвигается к объективному познанию прошлого, хотя ей могут препятствовать такие факторы, как ошибочный взгляд на исторические возможности, ошибочные или неточные ценностные суждения, неадекватность мировоззрения, исходной позиции или постановки вопроса.
Коротко говоря, в этой главе я попытался высветить набор процедур, которые разными путями приводят историков к утверждению возможности объективного исторического знания. Карл Бек-кер, например, признавал себя релятивистом в том смысле, что Weltanschauung влияет на работу историка, но в то же время утверждал, что значительная и все возрастающая часть знания объективно достижима12. Эрих Ротакер проводил корреляцию между Wahrheit [истиной] и Weltanschauung, так как они оказывают влияние на историческую мысль; но в то же время он утверждал существование правильности {Richtigkeit) применительно к критическим процедурам и собственным выводам историка13. Карл Хойси тоже считал, что философские взгляды не затрагивают критических процедур, хотя вполне могут оказывать влияние на способ написания истории14. Он также утверждал, что, хотя относительно простая форма, в которую историк организует свои материалы, заключается не в бесконечно сложном ходе событий, а только в сознании историка, тем не менее, разные историки, отправляясь от одной и той же исходной позиции, приходят к одинаковой организации своей работы15. Сходным образом Рудольф Бультман полагал, что критический метод, основанный на определенной Fragestellung, приводит к однозначным результа-
12 Цит. по: Carl Becker, «Review of Maurice Mendelbaum's The Problem of His
torical Knowledge», Philosophic Review, 49 (1940), 363, by C.W. Smith, Carl Becker: On
History and the Climate of Opinion, Cornell University Press, 1956, S. 97.
13 Erich Rothacker, Logik und Systematik der Geisteswissenschaften (Handbuch der
Philosophie), Munchen-Berlin, 1927, Bonn, 1947, S. 144.
14 Karl Heussi, DieKrisisdes Historismus, Tubingen: Mohr, 1932, S. 63.
'5 Ibid., p. 56.
ИСТОРИЯ
там16. Эти авторы по-разному говорят об одной и той же реальности. Полагаю, они имеют в виду, что существуют процедуры, которые, caeteris paribus, приводят к историческому знанию. Наша цель и забота в этой главе заключалась в том, чтобы указать на природу этих процедур.
l6 Rudolf Bultmann, "Das Problem der Hermeneutik", Zeitschrift fur Theologie und Kircje, 47 (1950), 64; см. также Glauben und Verstehen, II, Tubingen: Mohr, 1961, S. 229.
 ИСТОРИЯ И ИСТОРИКИ
ИСТОРИЯ И ИСТОРИКИ
Обычно историки довольствуются тем, что пишут историю, не задаваясь вопросом о природе исторического знания1. И это неудивительно. В самом деле, историческое знание достигается благодаря адаптации повседневных процедур человеческого понимания; и хотя сама адаптация требует научения, лежащие в ее основе процедуры слишком глубоки, спонтанны, неуловимы, чтобы их можно было объективировать и описать без длительного и в высшей степени специального усилия2. Даже такой великий новатор, каким был Леопольд фон Ранке, считал, что его способ работы сложился совершенно самостоятельно, в силу своего рода необходимости, а вовсе не в попытке подражать практике предшественника фон Ранке и первопроходца Бартольда Нибура3.
Однако время от времени историки вынуждены делать нечто большее, чем просто писать историю. Они ее преподают. Они чувствуют себя обязанными защищать свои позиции от угрозы заблуждения. Они оказываются перед необходимостью дать частичный или полный отчет в том, чтб они делают, когда пишут историю. Тогда они волей-неволей обращаются к более или менее адекватной или
1 The Varieties of History: From Voltaire to the Present. Ed., selection, introduction:
Fritz Stern, New York: Meridian Books, 1956, p. 14.
2 О понимании и суждении с позиций здравого смысла см. Insight, pp. 173—
181, 280-299.
3 G.P. Gooch, History and Historians in the Nineteenth Century, London: Longmans,
19522, p. 75.
2i8
ИСТОРИЯ И ИСТОРИКИ
неадекватной теории познания и легко вовлекаются в то или иное философское течение, с которым не в силах совладать.
Эта диалектика может быть в высшей степени поучительной — если, разумеется, не ограничиваться чисто логической проверкой ясности терминов, связности утверждений и строгости выводов. Ибо историк предлагает не связную теорию познания, а осознание природы своего материала и умение описывать его живо и конкретно, на что способен только практик.
1. ТРИ РУКОВОДСТВА
Руководства по историческому методу вышли из моды, но в последние годы XIX в. они были популярны и влиятельны. Я возьму три из них, представляющие разные тенденции, и сравню их между собой в одном, но, думаю, важном пункте, а именно, в пункте отношения между историческими фактами и их интеллигибельной взаимозависимостью, Zusammenhang.
В течение двадцати пяти лет Иоганн Густав Дройзен (1808-1884) непрестанно перерабатывал свои лекции «Энциклопедия и методология истории». Он также написал «Очерк историки» («Grundrifi der Historik»), вышедший в свет в виде Manuscriptdruck [оттиска рукописи] в 1858 и 1862, а в виде полноценного издания — в 1868, 1875 и 1882 гг. Интерес к наследию Дройзена сохраняется: так, издание, объединяющее лекции в версии 1882 г. и «Grundrifi» со всеми его вариантами, было в четвертый раз отпечатано в 1960 г4.
Дройзен разделяет работу историка на четыре части. Эвристика обнаруживает релевантный археологический материал, памятники, свидетельства. Критика оценивает их достоверность. Интерпретация высвечивает исторические реальности в полноте условий и процесса их возникновения. Наконец, презентация превращает повествование о прошлом в реальную силу, которая в настоящем воздействует на будущее5.
Так вот, это разделение у Дройзена отличается от разделения у его
4 J.G. Droysen, Historik. Vorlesungen iiber die Enzyklopadie und Methodologie der
Geschichte, hrsg. von Rudolf Hiibner, Munchen, I9604.
5 Очеркпозиции Дройзена см. вработе: Р. Hiinermann, DerDurchbruchgeschicht-
lichen Denkensim 19. Jahrhundert, Freiburg-Basel-Wien: Herder, 1967, SS. 111-128.
 МЕТОД В ТЕОЛОГИИ
МЕТОД В ТЕОЛОГИИ
предшественников и современников в одном важном отношении: он ограничивает критику удостоверением надежности источников, они же распространяют ее на установление реальности исторических фактов. Дройзен воспринимал их позицию как проявление чистой инерции. Моделью исторической критики для них служила критика текста, принятая у филологов. Но критика текста — одно дело, а историческая критика — другое. Критика текста удостоверяет объективные факты, а именно, исходное состояние текста. Но исторические факты образуют не текст, а смысл текста: это сражения, советы, восстания. Они представляют собой сложные единства, результаты многообразных действий и взаимодействий индивидов. Они протяженны в пространстве и во времени; их нельзя изолировать и рассмотреть в некоем едином акте восприятия, но следует удерживать вместе, собирая многообразные отдельные события в целостное ин-терпретативное единство6.
Итак, с точки зрения Дройзена, историк вовсе не устанавливает предварительно факты, чтобы затем найти им истолкование. Напротив, факты и взаимосвязи образуют единый массив, бесшовную ткань. В совокупности они конституируют историческую реальность в полноте условий и процесса ее возникновения. Они открываются в ходе интерпретации, ведущейся под лозунгом: forschend verstehen — через разыскание приходить к пониманию. Разыскание ведется по четырем направлениям: во-первых, в направлении хода событий (например, военной кампании); во-вторых, в направлении условий, образующих контекст событий; в-третьих, в направлении характера участников событий; в-четвертых, в направлении идей и целей, которые при этом осуществлялись7. Таким образом, историческая интерпретация движется к исторической реальности, схватывая ряд событий сначала в их внутренних взаимосвязях, затем в их зависимости от ситуации, потом в свете характера, или психологии действующих лиц, и, наконец, как осуществление целей и идей. Только через это четверичное схватывание смысла и значения события оказываются раскрытыми в их собственной реальности.
Позиция Дройзена не стала главенствующей. В монументальном
6 Ibid., SS. 112 ff.
7 Ibid., SS. 118 ff.
22O
ИСТОРИЯ И ИСТОРИКИ
«Lehrbuch der historischen Methode und der Geschichtsphilosophie» [«Учебнике исторического метода и философии истории»] Эрнста Бернхай-ма можно различить сходное четверичное членение исторического труда; но здесь критика подразделяется на внешнюю и внутреннюю8. Внешняя критика определяет, являются ли единичные источники надежным историческим свидетельством9. Внутренняя критика должна удостоверить фактичность событий, засвидетельствованных несколькими источниками, взятыми вместе10. В результате могло бы сложиться впечатление, что сначала устанавливаются исторические факты, и лишь затем начинается работа по интерпретации, которую Бернхайм называет Auffassung [постижением] и определяет как обнаружение взаимозависимостей {Zusammenhang) между событиями11.
Тем не менее, остается фактом, что, хотя Бернхайм возлагал задачу установления событий на внутреннюю критику, он не считал это установление независимым от способа, каким историк схватывает взаимосвязи. Напротив, он прямо учил о том, что установление событий и схватывание их взаимосвязей зависимы и неотделимы друг от друга. Более того, он добавлял, что без объективного схватывания взаимосвязей нельзя должным образом выверить источники, релевантные для тех или иных разысканий12.
Еще дальше от позиций Дройзена стоит «.Introduction aux etudes historiques» [«Введение в исторические исследования»], написанное Ш. Ланглуа и Ш. Сеньобосом и опубликованное в Париже в 1898 г13. Это руководство разделяется на три части. Книга первая посвящена предварительным штудиям, книга вторая — аналитическим операциям, книга третья — операциям синтетическим. Аналитические операции разделяются на внешнюю и внутреннюю критику. На основе
8 Е. Bernheim, Lehrbuch der historischen Methode, Miinchen, 1905, S. 294.
9 Ibid., S. 300.
10 Ibid., S. 429.
11 Ibid., S. 522.
и Ibid., S.701.
13 Я привожу ссылки по английскому переводу, выполненному G.C. Berry (New York: Henry Holt, 1925). [Русский перевод: 111.-В. Ланглуа, Ш. Сеньобос, Введение в изучение истории, пер. А. Серебряковой; Государственная публичная историческая библиотека России. 2-е изд. / под ред. и со вступительной статьей К). И. Семенова. М., 2004. — Прим. пер.].



 МЕТОД В ТЕОЛОГИИ
МЕТОД В ТЕОЛОГИИ
внешней критики подготавливаются критические издания текстов, устанавливаются их авторы, классифицируются исторические источники. Внутренняя критика осуществляется по аналогии с общей психологией и восстанавливает последовательность ментальных состояний автора документа. Она определяет: 1) чтб он имел в виду; 2) верил ли тому, о чем говорит; 3) оправдано ли его верование.
Благодаря этому последнему шагу документ, как считалось, получает статус, близкий статусу данных в «объективных» науках. Поэтому он становится эквивалентом наблюдения и должен использоваться тем же способом, каким используются наблюдения у естествоиспытателей14. Но в естественных науках факты считаются надежными, только если они не просто получены в единичном наблюдении, но подтверждены несколькими независимыми наблюдателями. История, с ее несовершенными источниками информации, не только не освобождается от этого принципиального требования, но должна тем строже ему подчиняться. Отсюда следует, что исторические факты, чтобы быть удостоверенными, нуждаются в независимых и взаимно поддерживающих свидетельствах15.
Внутренние следствия этого анализа не были упущены из вида. В самом деле, в нем факты были изъяты из их исходного контекста, изолированы их друг от друга и, можно сказать, разобраны на мельчайшие составные части'6. Соответственно, аналитические операции в книге второй нужно было дополнить синтетическими операциями в книге третьей. Они были описаны под такими рубриками, как классификация, вопрос и ответ, аналогия, группировка, вывод, выработка общей формулы. Но каждый из этих пунктов рисковал подвергнуться множественным искажениям, против которых непрестанно высказывались предостережения. Ловушек и вправду было так много, что позднее сам Ш. Ланглуа уже не писал историю, а довольствовался воспроизведением избранных документов17.
Итак, у Ланглуа и Сеньобоса появляется ясно проведенное различение и разделение между установлением исторических фактов и
ИСТОРИЯ И ИСТОРИКИ
установлением их взаимосвязей. Можно было бы подумать, что это различение и разделение опирается на понятия естествознания, популярные в позитивистских и эмпиристских кругах в XIX в18. Но в тех же самых кругах находились и те, кто задавал дальнейшие вопросы. Зачем что-то добавлять к фактам? Разве любое добавление, не очевидное для всех и каждого, не является субъективным? Почему не предоставить фактам говорить самим за себя?
2. ДАННЫЕ И ФАКТЫ
В этом пункте будет правильным ввести пояснение: данные есть нечто одно, а факты — другое.
Существуют данные чувств и данные сознания. Общим для тех и других является то, что они даны или могут быть даны. Их можно принимать или не принимать во внимание, исследовать или не исследовать, понимать, постигать, привлекать в качестве очевидного свидетельства в суждении или нет. Если нет, то они просто даны. Но в той мере, в какой они исследуются, они уже не просто даны, но также вступают в сочетание с другими компонентами познавательной деятельности человека.
Исторические факты, напротив, — это познанные события. События, которые познаны, принадлежат историческому прошлому. Познание событий для историка есть его настоящее. Более того, это познание есть человеческое познание: не какая-то изолированная деятельность, но деятельность составная, которая разворачивается на трех различных уровнях. Так, исторический факт будет обладать конкретностью объекта внешнего или внутреннего опыта; определенностью объекта понимания и постижения; неподатливостью того, что схватывается как нечто виртуально безусловное (или близкое к таковому), а значит, как нечто (вероятно) независимое от познающего субъекта19.
14 Langlois and Seignobos, Introduction, p. 67.
15 Ibid., p. 195 f.
16 Ibid., pp. 211, 214.
17 H.I. Marrou, The Meaning of History, Baltimore-Dublin: Helicon, 1966, p. 17.
18 Об этом движении см. Bemheim, Lehrbuch, SS. 648-667; Stern, Varieties,
PP. 16, 20, 120-137, 209-223, 314-328; P. Gardiner, Theories of History, New York:
Free Press, 1959, excerpts from Buckle, Mill, Compte; B. Mazlish, The Riddle of His
tory, New York: Harper & Row, 1966, глава о Конте.
19 О данных см. Insight, pp. 73 f.; о факте см. ibid., pp. 331, 347, 366, 411 ff.


 МЕТОД В ТЕОЛОГИИ
МЕТОД В ТЕОЛОГИИ
По мере того, как исследование движется вперед, инсайты накапливаются, а недосмотры уменьшаются. Этот длящийся процесс не затрагивает данные постольку, поскольку они даны или могут быть даны, но в очень существенной степени затрагивает их постольку, поскольку их разыскивают, сосредоточивают на них внимание, объединяют их тем или иным способом во все более обширные и сложные структуры. С другой стороны, только когда структуры приобретают оформленность, а процесс вопрошания начинает иссякать, — только тогда мало-помалу проступают факты. Ибо факты проступают не до того, как будут поняты данные, а лишь после того, как они будут поняты удовлетворительно и строго.
В критической истории существует и другое затруднение, ибо в ней совершаются два разных, хотя и взаимозависимых, процесса движения от данных к фактам. В первом случае данные представляют собой чувственно воспринимаемые памятники, материалы раскопок, повествования; опираясь на них, историк пытается прослеживать генезис и оценивать достоверность доставляемой ими информации. Факты, к которым ведет этот первый процесс, — это ряд утверждений, полученных из источников и помеченных знаком большей или меньшей надежности. В той степени, в какой они надежны, они доставляют информацию о прошлом. Но информация 5 которую они доставляют, — это, как правило, не историческое знание, а исторический опыт. Он касается фрагментов, отрывков и отрезков, которые привлекают внимание мемуаристов, мастеров эпистолярного жанра, авторов хроник, репортеров и комментаторов. Это не всестороннее видение происходящего в определенное время и в определенном месте: ведь современники, вообще говоря, не располагают средствами, необходимыми для формирования такого всестороннего видения. Отсюда следует, что факты, установленные в процессе критики, суть не исторические факты, а всего лишь данные для разыскания исторических фактов. За процессом критики должен последовать [второй] процесс — интерпретация, при которой историк соединяет вместе собранные им фрагменты информации и критически оценивает их. Только когда этот процесс интерпретации и реконструкции завершен, проступает то, что можно уже с полным правом назвать историческими фактами.
ИСТОРИЯ И ИСТОРИКИ 3. ТРИ ИСТОРИКА
В знаменитом докладе, дважды прочитанном перед ученым сообществом в 1926 г., но опубликованном лишь посмертно, Карл Беккер вспоминает, как один из выдающихся и почтенных историков сказал ему: дело историка — «представить все факты и позволить им говорить самим за себя». По словам Беккера, за двадцать лет он научился тому, «что такой подход абсурден: во-первых, потому, что невозможно представить все факты; а во-вторых, потому, что, даже если бы вы смогли представить все факты, эти убожества не сказали бы ничего, вообще ничего»20.
Беккер не довольствовался атакой на то, чтб он считал иллюзией — одной из самых дорогих историкам XIX в.21. Шестнадцатью годами раньше, в статье, опубликованной в октябрьском номере «Atlantic Monthly» за 1910 г., он весьма убедительно описал, что именно должно было бы произойти, чтобы картотека, содержащая результаты исторической критики, могла привести историка к постижению исторического хода событий:
Когда он обращается к своим карточкам, одни аспекты отображенной в них реальности интересуют его более, другие — менее; одни сохраняются, другие забыты; некоторые аспекты способны положить начало новому направлению мысли; одни выглядят причинно взаимосвязанными, другие — связанными логически, третьи вообще не обнаруживают никакой заметной взаимосвязи. Причина этого проста: некоторые факты затрагивают сознание как интересные или важные, обладают некоторого рода осмысленностью, ведут к некоей желанной цели, потому что ассоциируются с идеями, которые уже присутствовали в сознании: они некоторым образом стыкуются с упорядоченным опытом историка. Этот оригинальный синтез — который не следует смешивать с подготовкой книги к публикации, это совсем другой вопрос, — осознается лишь отчасти. Он осуществляется почти автоматически. Сознание будет проводить отбор и различение с самого начала. Здесь важна вся «апперципирующая масса», которая улавливает то или иное новое впечатление и встраивает его в собственное растущее содержание. Это
го Carl Becker, Detachment and the Writings of History, Essays and Lectures edited by Phil Snyder, Ithaca N.Y.: Cornell, 1958, p. 54.
21 Ibid., p. 53.
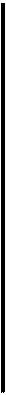 МЕТОД В ТЕОЛОГИИ
МЕТОД В ТЕОЛОГИИ
правда, что, когда она включает в себя новые факты, старые идеи и понятия модифицируются, дифференцируются и даже разрушаются; но модифицированные идеи становятся новыми центрами притяжения. И таким образом этот процесс длится, возможно, годами. Окончательный синтез, безусловно, выстраивается из отдельных фактов — причинно обусловленных и выявляющих каждое отдельное изменение; но отдельный факт, отобранный в силу его важности, в любом случае был отобран в силу его важности для некоторой идеи, уже завладевшей данным полем22.
Я привел эту довольно длинную цитату потому, что в ней историк высвечивает род деятельности, следующий за исторической критикой и предшествующий написанию исторической работы. Нельзя сказать, что Беккер был успешным теоретиком познания: из его текстов не извлечь точной и связной теории генезиса исторического знания23. Тем не менее, он не был человеком, послушно следующим расхожим клише; и он был достаточно наблюдателен и внятен, чтобы удачно описать то, что я назвал бы постепенным накоплением ин-сайтов. Каждый из них дополняет, уточняет или корректирует предшествующие инсайты, пока — быть может, годами позже — поток дальнейших вопросов не иссякнет, и собранная историком информация о прошлом историческом опыте не претворится в историческое знание.
Вопросы, волновавшие Карла Беккера в Соединенных Штатах, волновали и Р.Д. Коллингвуда в Англии. Оба подчеркивали конструктивный характер работы историка. Оба выступали против того, что я назвал принципом пустой головы. Но позиция, против которой выступал Беккер, сводится к тому взгляду, что историк должен просто представить все факты и затем предоставить им самим говорить за себя. Коллингвуд атакует ту же позицию под именем «истории ножниц и клея»24. Это наивный взгляд на историю в терминах памяти, свидетельских показаний, достоверности25. Он предполагает, что
22 Ibid., pp. 24 f.
23 Это момент отмечает В.Т. Wilkins, Carl Becker, Cambridge: M.I.T. and Har
vard, 1961, pp. 189-209.
24 R.G. Collingwood, The Idea of History, Oxford, Clarendon, 1946, pp. 257-263,
269 f., 274-282.
25 Ibid., p. 234.
ИСТОРИЯ И ИСТОРИКИ
историк извлекает из источников утверждения, решает, следует ли считать их истинными или ложными, и вклеивает истинные утверждения в черновую тетрадь, чтобы затем переработать их в повествование, а ложные утверждения отправляет в мусорную корзину26. Это единственный тип истории, ведомый античному миру и Средним векам27. Он идет на убыль, начиная с Вико. Не рискуя говорить о его полном исчезновении, Коллингвуд, однако, утверждает, что любая история, которая пишется сегодня в соответствии с подобными принципами, устарела по меньшей мере на столетие28.
Дата публикования: 2014-11-18; Прочитано: 422 | Нарушение авторского права страницы | Мы поможем в написании вашей работы!
