 |
Главная Случайная страница Контакты | Мы поможем в написании вашей работы! | |
3 страница. Таким образом, в исторических исследованиях произошла ко-перниканская революция29 — в той мере, в какой история сделалась равно критической и
|
|
Таким образом, в исторических исследованиях произошла ко-перниканская революция29 — в той мере, в какой история сделалась равно критической и конструктивной30. Этот процесс атрибуируется историческому воображению31, а также логике, в которой вопросы более фундаментальны, чем ответы32. Эти две атрибуции отнюдь не являются несовместимыми. Историк начинает с утверждений, которые находит в своих источниках. Попытка представить в воображении их смысл порождает вопросы, ведущие к дальнейшим утверждениям в источниках. Постепенно историк прочерчивает сетку воображаемой конструкции, связывая воедино фиксированные точки, предоставляемые утверждениями источников33. Но эти так называемые фиксированные точки фиксированы не абсолютно, а относительно34. В своем нынешнем вопрошании историк решил принять их за фиксированные, но фактически их фиксированность — всего лишь плод предыдущего исторического вопрошания. Даже если утверждения, из которых исходит историк, фигурируют у Фукидида, все же именно историческое знание позволяет историку пойти далее простых знаков на бумаге: к узнаванию греческого алфавита, к значениям слов в аттическом диалекте, к аутентичности пассажей, к суждению, что
26 Ibid., p. 259.
27 Ibid., p. 258.
28 Ibid., p. 260.
29 Ibid., pp. 236, 240.
30 Ibid., p. 240.
31 Ibid., pp. 241 ff.
32 Ibid., pp. 269-274.
33 Ibid., p. 242.
34 Ibid., p. 243.
 МЕТОД В ТЕОЛОГИИ
МЕТОД В ТЕОЛОГИИ
в этих случаях Фукидид знал, о чем говорит, и пытался поведать истину35.
Отсюда следует, что, если рассматривать историю не на примере того или иного труда, а в целом, она представляет собой автономную дисциплину. Она зависит от данных, от материалов, уцелевших от прошлого и доступных в настоящем. Но история — это не вопрос доверия к авторитетам и не вопрос вывода из авторитетных источников. Каким образом и в какой мере будут использованы источники, решают критические процедуры36. Конструктивные процедуры приводят к результатам, которые, быть может, были неведомы авторам источников. Поэтому «историк не только не основывает свои суждения на авторитетах, отличных от него самого, и не согласует свою мысль с их утверждениями, но сам выступает в качестве авторитета для самого себя, а его мысль автономна, независима и обладает неким критерием, которому должны соответствовать его так называемые авторитеты: критерием, на основании которого они и подлежат критической оценке»37.
Такую коперниканскую революцию Коллингвуд признает свершившейся в истории Нового времени. Эту точку зрения нельзя усвоить, исходя из наивно-реалистских или эмпиристских предпосылок. К сожалению, у Коллингвуда она представлена в идеалистическом контексте. Но, послужив средством введения удовлетворительной теории объективности и суждения, идеализм может быть устранен без ущерба для сути учения Коллингвуда об историческом воображении, исторической очевидности, логике вопросов и ответов.
Темы, которые рассматривались в Соединенных Штатах и в Англии, рассматривались и во Франции. В 1938 г. Реймон Арон представил очерки исторической мысли Дильтея, Риккерта, Зиммеля и Макса Вебера38, а в другом томе предложил свое собственное развитие идеи немецкого Verstehen [понимания], которое по-французски
35 Ibid., p. 244.
36 Ibid., p. 238.
37 Ibid., р. 236; см. р. 249; см. также Marrou, Meaning of History, pp. 307—310 (ци-
тир. по русскому переводу: Коллингвуд Р.Дж. Идея истории. Автобиография. —
М.: «Наука», 1980).
3 R. Агоп, La philosophie critique de I'histoire, Paris: Vrin, 1950.
ИСТОРИЯ И ИСТОРИКИ
именовалось comprehension39. Но меня занимают сейчас не теоретики истории, а профессиональные историки, и поэтому я обращаюсь к Анри-Ирене Марру, который в 1953 г. был приглашен занять кафедру кардинала Мерсье (Chaire Cardinal Mercier) в Лувене и использовал эту возможность, чтобы обсудить природу исторического знания.
На следующий год вышла в свет работа А.-И. Марру «Об историческом знании» [«De (a conaissance historique»]i0. Она посвящена не теоретическим вопросам, а скорее предлагает систематический обзор, разумный и взвешенный синопсис тех выводов, к которым пришли историки относительно природы стоящей перед ними задачи41. По мнению автора, природа этой задачи была установлена столь же строго, что и теория эксперимента в дни Джона Стюарта Милля и Клода Бернара42. Таким образом, А.-И. Марру рассмотрел все общие вопросы исторического исследования, и сделал это с таким пониманием теоретических позиций и с такой чуткостью к бесконечной сложности исторической реальности, какие были присущи Питеру Гейлу43.
Из этого изобилия нас в данный момент интересует только отношение между фактом и теорией, анализом и синтезом, критикой и конструктивностью. А.-И. Марру рассматривает оба аспекта в двух последовательных главах. Он отдает себе отчет в том, что его воззрения на критику заставили бы его старых учителей-позитивистов перевернуться в гробу. Там, где они требовали непримиримости критического духа, он призывал к вчувствованию и пониманию44. Негативный критический подход, предполагавший озабоченность честностью, компетентностью и аккуратностью авторов, был хорошо приспособлен к нуждам профессиональной работы в области
39 R. Агоп, Introduction a la philosophie de I'histoire, Paris: Gallimard, 1948.
40 Цит. по английскому переводу: The Meaning of History, Baltimore and Dublin:
Helicon, 1966.
41 Marrou, Meaning of History, p. 25.
42 Позднее Марру был вынужден признать, что это согласие менее совершен
но, нежели ему казалось. См. приложение к Meaning of History, pp. 301—316.
43 . Сложность — постоянная тема в книге Питера Гейла: Pieter Geyl, Debates
with Historians, New York: Meridian Books, 1965. [Питер Гейл (1887-1966) — гол
ландский историк. — Прим. пер.]
44 H.-I. Marrou, Meaning of History, pp. 103 ff.
МЕТОД В ТЕОЛОГИИ
ИСТОРИЯ И ИСТОРИКИ
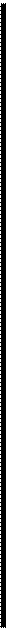 политической и церковной истории Западной Европы в эпоху Средневековья, с ее изобилием вторичных хроник, подложных хартий и декреталий и датируемых задним числом житий святых45. Но задача историка не ограничивается устранением ошибок и подлогов. Документы можно использовать самими разными способами, и собственная задача историка в том и состоит, чтобы правильно понять свои документы, точно уловить, чтб они прямо или косвенно раскрывают, и, таким образом, использовать их со знанием дела46.
политической и церковной истории Западной Европы в эпоху Средневековья, с ее изобилием вторичных хроник, подложных хартий и декреталий и датируемых задним числом житий святых45. Но задача историка не ограничивается устранением ошибок и подлогов. Документы можно использовать самими разными способами, и собственная задача историка в том и состоит, чтобы правильно понять свои документы, точно уловить, чтб они прямо или косвенно раскрывают, и, таким образом, использовать их со знанием дела46.
Призывая к переходу от голой критики документов к их пониманию, А.-И. Марру подчеркивает также непрерывность и взаимозависимость между пониманием релевантных документов и пониманием хода событий. Историк начинает с того, что определяет тему, собирает досье из релевантных документов и фиксирует степень достоверности каждого из них. Но это всего лишь абстрактная схема. Продвижение в познании осуществляется по спирали. По мере того, как познание событий углубляется, характер документов предстает в новом свете. Исходный вопрос переформулируется; документы, казавшиеся нерелевантными, обретают значимость; на свет выходят новые факты. Так историк постепенно осваивает область своего исследования, обретая доверие к собственному пониманию смысла, цели и достоинства своих документов и постигая ход событий, прежде скрываемый, а ныне являемый документами47.
4. VERSTEHEN
Я уже упоминал дройзеновское понятие исторического исследования как forschend verstehen [исследуя, понимать], и то, как Рей-мон Арон ввел немецкую историческую рефлексию во французскую научную среду. Теперь мы должны обратиться к этой рефлексии, которая была эмпирической, не будучи эмпиристской. Она была эмпирической, потому что была тесно связана с работой немецкой исторической школы, а хартию этой школы составлял протест против гегелевского априорного выстраивания смысла истории. И она
45 Ibid., pp. 112 f.
46 Ibid., pp. 113 f. Cp. Collingwood, Idea of History, pp. 247, 259; Becker, Detach
ment, pp. 46 f.
47 H.-I. Marrou, Meaning of History, pp. 131 f.
не была эмпиристской, потому что вполне отдавала себе отчет в том, что историческое познание не сводится к вопросу всматривания: напротив, оно заключает в себе некий таинственный, интуитивный процесс, в котором историк приходит к пониманию.
Эта нужда в понимании явила себя двумя способами. Во-первых, существует герменевтический круг. Например, можно схватывать смысл предложения через понимание слов, но надлежащее понимание слов возможно только в свете предложения как целого. Сходным образом предложения относятся к параграфам, параграфы — к главам, главы — к книгам, книги — к ситуации и намерениям автора. Так вот, этой кумулятивной сетью взаимозависимостей не овладеть посредством какого-либо набора концептуальных процедур. Здесь нужен самокорректирующий процесс научения, в котором допо-нятийные инсайты накапливаются, чтобы дополнять, уточнять, исправлять друг друга.
Во-вторых, нужда в понимании вновь явила себя в иррелевант-ности универсального, или общего. Чем креативнее художник, чем оригинальнее мыслитель, чем величественнее гений, тем менее возможно подвести его свершение под универсальные принципы или общие правила. Если здесь вообще уместно говорить о правилах, то он сам становится источником новых правил, и хотя другие будут им следовать, они будут следовать им не точно так же, как это делал учитель. Даже не очень умные люди обладают своей оригинальностью, тогда как рабское подражание — дело не разума, а машины. Но хотя эта высокая степень индивидуальности, являющая себя в художнике, мыслителе, писателе, и не достижима для общих правил и универсальных принципов, она вполне достижима для понимания. Ибо в первую очередь понимается то, что дано чувству или сознанию, то есть то, что представлено в образах, словах, символах, знаках. Данное или представленное таким образом есть индивидуальное. Схваченное пониманием есть интеллигибельность индивидуального. Если не считать случаев утраты человеком надлежащего контроля над собственным употреблением языка, обобщения здесь являются дальнейшим, а в деле интерпретации, как правило, излишним шагом. Существует только одна «Божественная комедия», только один — шекспировский — «Гамлет», только один — гётевский — двухчастный «Фауст».
МЕТОД В ТЕОЛОГИИ
ИСТОРИЯ И ИСТОРИКИ



 Пределы понимания, радиус его действия постепенно расширялись. К грамматической интерпретации текстов Фридрих Шлейер-махер (1768—1834) добавил психологическую интерпретацию, нацеленную на понимание личностей, и особенно на угадывание базового момента в творческом вдохновении писателя48. Август Бёк (1785-1867), ученик Ф. Вольфа и Ф. Шлейермахера, расширил пределы понимания до всего спектра философских наук. В его «Энциклопедии и методологии филологических наук» [«Enzyklopadie und Methodologie derphilologischen Wissenschaften»] идея филологии была осмыслена как интерпретирующая реконструкция построений человеческого духа49. То, что Бёк сделал для философии, Дройзену предстояло сделать для истории. Он сместил понятие понимания из контекста эстетики и психологии в более широкий контекст истории, (1) указав, что объектом понимания служит выражение, и (2) отметив, что не только индивиды, но и такие группы, как семьи, народы, государства, религии, выражают себя50.
Пределы понимания, радиус его действия постепенно расширялись. К грамматической интерпретации текстов Фридрих Шлейер-махер (1768—1834) добавил психологическую интерпретацию, нацеленную на понимание личностей, и особенно на угадывание базового момента в творческом вдохновении писателя48. Август Бёк (1785-1867), ученик Ф. Вольфа и Ф. Шлейермахера, расширил пределы понимания до всего спектра философских наук. В его «Энциклопедии и методологии филологических наук» [«Enzyklopadie und Methodologie derphilologischen Wissenschaften»] идея филологии была осмыслена как интерпретирующая реконструкция построений человеческого духа49. То, что Бёк сделал для философии, Дройзену предстояло сделать для истории. Он сместил понятие понимания из контекста эстетики и психологии в более широкий контекст истории, (1) указав, что объектом понимания служит выражение, и (2) отметив, что не только индивиды, но и такие группы, как семьи, народы, государства, религии, выражают себя50.
С именем Вильгельма Дильтея (1833—1911) связано дальнейшее расширение горизонта. Дильтей обнаружил, что немецкая историческая школа, противопоставлявшая исторический факт идеалистическим построениям a priori, в своих действительных процедурах была, тем не менее, гораздо ближе к идеалистическим, чем к эмпиристским идеям и нормам". С завидной проницательностью он указал на то, что успех исторической школы, как и более ранний успех естествознания, представляет собой новую данность для теории познания, и предложил строить на фундаменте этой новой данности. Подобно Канту, задававшемуся вопросом о том, каким образом возможны всеобщие начала a priori, Дильтей задал себе вопрос о возможности исторического знания и, в более широком смысле, о возможности наук о человеке, понятых как Geistwissenschaften [науки о духе]52.
Базовый шаг Дильтея можно представить как транспозицию гегелевской мысли — от идеалистического Geist [Духа] в человеческую
48 H.G. Gadamer, WahrheitundMethode, SS. 172-185; R.E. Palmer, Hermeneutics,
Evanston: Northwestern, 1969, pp. 84—97.
49 Hunermann, Durchbruch, S. 64; SS. 63-69 описывают мысль Бёка.
50 Ibid., SS. 106 ff.; Gadamer, Wahrheit, SS. 199-205.
51 Gadamer, Wahrheit, S. 205.
52 Ibid., S. 52; Palmer, Hermeneutics, pp. 100 ff.
ieben [жизнь]. Объективный дух Гегеля возвращается, но теперь он представляет собой элемент объективации, осуществляемой в конкретной человеческой жизни. Жизнь выражает себя; в выражении присутствует выражаемое. Таким образом, данные исследований человека не являются чем-то, что уже дано; сами по себе, до всякой интерпретации, они суть выражения, манифестации, объективации человеческой жизни. Затем, в процессе их понимания интерпретатором, предметом понимания становится и жизнь, которая в них выражена, манифестирована, объективирована53. Наконец, как интерпретация выражает и сообщает понимание интерпретатора, так объективации жизни представляют собой интерпретацию, которую жизнь дает самой себе: «Das Leben selbst legtsich aus» [«жизнь сама интерпретирует себя»]54.
Итак, в конкретной физической, химической, витальной реальности человеческой жизни тоже присутствует смысл. Он одновременно внутренний и внешний: внутренний — как выражающий, внешний — как выраженный. Он являет нужду и удовлетворение. Отвечает ценностям. Интендирует цели. Подчиняет средства целям. Конституирует социальные системы и наделяет их культурным значением. Преобразует окружающую природу.
Многие выражения индивидуальной жизни связаны между собой интеллигибельной сетью. Достижение этой интеллигибельной взаимосвязанности — вопрос не просто объединения всех выражений, осуществляемых на протяжении жизни. Скорее здесь имеет место развивающееся целое, которое присутствует в своих частях, артикулируя при каждом новом стечении обстоятельств те ценности, которые ему дороги, и те цели, которые оно преследует, и в результате обретая свою собственную индивидуальность и отличительные признаки. Как человеческое сознание не ограничено мгновением, но опирается на кумулятивную память и действует в соответствии со шкалой предпочтений, ориентированной на иерархию целей, — точно так же его выражения (не только все вместе, но и каждое в от-
53 Gadamer, Wahrheit, SS. 211, 214.
54 Ibid., S. 213; Palmer, pp. 103-114.
 МЕТОД В ТЕОЛОГИИ
МЕТОД В ТЕОЛОГИИ
дельности) обладают способностью выявлять направление жизни и ее импульс55.
Присутствуя в жизни индивида, интеллигибельность присутствует также в общих смыслах, общих ценностях, общих целях, общих и взаимодополняющих видах деятельности групп. Могущие быть общими или взаимодополняющими, эти виды деятельности могут также различаться, противостоять друг другу, вступать друг с другом в конфликт. А значит, в принципе историческое понимание возможно и достижимо. Ведь если мы способны понять наши собственные жизни и жизни других людей поодиночке, то можем также понять их в их взаимосвязях и взаимозависимостях56.
Более того, как историк способен рассказать об интеллигибельном ходе событий, так ученый в области наук о человеке способен проанализировать повторяющиеся или развивающиеся структуры и процессы индивидуальной или групповой жизни. История и науки о человеке не только не противостоят друг другу, но зависят друг от друга. Ученый-гуманитарий должен будет увидеть свои данные в их надлежащем историческом контексте; историк же может вполне овладеть своим материалом, только если он овладеет также релевантными науками о человеке57.
Думаю, можно сказать, что Дильтей сделал многое для решения своей специфической проблемы. Он энергично провел различение между науками о природе и гуманитарными исследованиями. Он четко мыслил возможность исторического знания, не совпадающего ни с априорными конструкциями идеализма, ни с процедурами естествознания. Однако он не решил самую фундаментальную проблему — продвинуться за пределы как эмпиристских, так и идеалистических предпосылок. Его Lebensphilosophie [философия жизни] имеет эмпиристский крен, а его история и наука о человеке, основанная на понимании, Verstehen, не может быть усвоена эмпиристом58.
55 Gadamer, Wahrheit, SS. 212 f.
56 Wilhelm Dilthey, Pattern and Meaning in History, edited and introduced by
H.P. Rickman, New York: Harper & Row, 1962; London: Allen & Unwin, 1961. Chap
5,6.
57 Ibid., p. 123.
58 Gadamer, Wahrheit, SS. 218-228.
ИСТОРИЯ И ИСТОРИКИ
Далее можно коротко упомянуть два шага вперед в сравнении с позицией Дильтея. Во-первых, Эдмунд Гуссерль (1859-1938), осуществив доскональный анализ интенциональности, сделал очевидным, что человеческое мышление и суждение — не просто психологические события, но что они всегда и внутренним образом интендируют, подразумевают, имеют целью объекты, отличные от них самих59. Во-вторых, там, где Дильтей видел выражение и проявление жизни, Мартин Хайдеггер (1889-) усматривает понимание как источник всех человеческих проектов. Таким образом, Verstehen есть Dasein — в той мере, в какой Dasein есть способность человека к бытию60. Отсюда следует универсальность герменевтической структуры: как интерпретация происходит от понимания выражения, так само выражение происходит от понимания того, чтб значит быть человеком.
Теперь нужно добавить несколько комментариев. Во-первых, наше употребление терминов «инсайт», «понимание», более конкретно и одновременно более широко, чем коннотат и денотат термина Verstehen. Инсайт случается в любом виде человеческого познания: в математике, естествознании, здравом смысле, философии, науке о человеке, истории, теологии. Он случается 1) в ответ на вопрошание и (2) по отношению к чувственной презентации или репрезентации, включая слова и символы любого рода. Он состоит в схватывании интеллигибельного единства или отношения некоторых данных, образов или символов. Он служит активным основанием, из которого исходят конципирование, определение, гипотеза, теория, система. Это исхождение, которое не просто интеллигибельно, но интеллектуально, служит человеческим источником томистской и августини-анской модели тринитарной теории61. Наконец, простое и отчетливое доказательство допонятийного характера инсайта предоставляет современная переформулировка эвклидовой геометрии62. «Начала»
59 Ibid., S. 230 f.
60 Gadamer, Wahrheit, S. 245.
61 Таков тезис моей книги: Verbum: Word and Idea in Aquinas, London: Darton,
Longman & Todd, and Notre Dame: University Press, 1967.
6г См., например, H.G. Forder, The Foundations of Euclidean Geometry, Cambridge: Cambridge University Press, 1927.
 МЕТОД В ТЕОЛОГИИ
МЕТОД В ТЕОЛОГИИ
Эвклида зависят от инсайтов, которые неузнанно присутствуют в определениях, аксиомах и постулатах, которые легко возникают и служат основанием его выводов, но которые не могут быть выражены строго эвклидовым языком63.
Во-вторых, опыт и понимание, взятые вместе, служат источниками не знания, а только мысли. Чтобы продвинуться от мышления к познанию, необходимо добавить рефлективное схватывание виртуально необусловленного и его рациональное следствие — суждение. Этот третий уровень когнитивной деятельности осознается недостаточно теми авторами, которых мы упоминали; в результате не удается ясно и последовательно осуществить разрыв как с эмпиризмом, так и идеализмом.
В-третьих, помимо умного схватывания когнитивного факта, разрыв с эмпиризмом и идеализмом предполагает устранение когнитивного мифа. Существуют понятия знания и реальности, которые сформировались в детстве, которые выражены в терминах зрения и зримого, которые в течение столетий служили непоколебимым основанием материализма, эмпиризма, позитивизма, сенсуализма, феноменализма, бихевиоризма, прагматизма, и которые в то же время конституируют такие идеи понимания и реальности, которые идеалистам представляются абсурдными.
5. ПЕРСПЕКТИВИЗМ
В 1932 г. Карл Хойси опубликовал небольшую книгу под заглавием «Кризис историзма» («Die Krisis des Historismus»). Ее первые двадцать одна страница посвящены разбору различных значений термина Historismus. Среди множества кандидатур Хойси отобрал в качестве значения для Historismus, переживающего кризис, то видение истории, которое было принято у историков около 1900 г. Это видение
3 Например, Эвклид решает задачу построения равнобедренного треугольника с помощью двух пересекающихся окружностей; но нет эвклидова доказательства для того, что окружности должны пересекаться. Или: Эвклид доказывает теорему о том, что внешний угол треугольника больше, чем противолежащий внутренний угол, строя внутри внешнего угла угол, равный внутреннему противолежащему углу; но нет эквлидова доказательства для того, что этот построенный угол должен лежать внутри внешнего угла. Однако это «должен» может быть схвачено инсайтом, не имеющим формулировки на языке Эвклида.
ИСТОРИЯ И ИСТОРИКИ
включает в себя четыре главных элемента: (1) определенное, но наивное понимание природы объективности; (2) взаимосвязь всех исторических объектов; (3) универсальный процесс развития; (4) ограничение интересов историка миром опыта64.
Из этих четырех элементов виновником кризиса стал первый65. Около 1900 г. историки, подчеркивая опасность крена в субъективизм, исходили из того, что объект истории прочно установлен и однозначно структурирован. Мнения людей о прошлом могут меняться, но само прошлое остается тем, чем оно было. Хойси же, напротив, считал, что структуры существуют только в сознании людей, что результатом исследований, ведущихся с одинаковых позиций, становятся сходные структуры, и что историческая реальность не только не структурирована однозначно, но представляет собой не-угасающий стимул ко все новым историческим интерпретациям66.
Хотя в этом утверждении присутствуют идеалистические импликации, Хойси не желал бы толковать его столь жестко. Он тотчас добавляет, что в человеческой жизни много констант, и что однозначно определенные структуры не так уж редки. Что проблематично, так это введение таких констант и структур в более обширные целостности. Чем реже и уже контексты, к которым принадлежит личность, группа, движение, тем меньше вероятность того, что последующее развитие повлечет за собой пересмотр более ранней истории67. С другой стороны, там, где затрагиваются разные мировоззрения и ценности, можно ожидать согласия по отдельным фактам и отдельным комплексам фактов, но разногласия по более крупным вопросам и более широким взаимосвязям68.
Необходимо, однако, внести поправку более фундаментального характера. Базовый пункт Хойси заключается в том, что историческая реальность слишком сложна, чтобы ее когда-либо можно было описать исчерпывающим образом. Никто не смог бы рассказать всего, что произошло в битве при Лейпциге 16-19 октября 1813 г. Историк
64 Karl Heussi, Die Krisis des Humanismus, Tubingen, 1932, S. 20.
| Ibid., S. 56. 67 Ibid., SS. 57 f. 68 Ibid.,S. 58. |
65 Ibid., SS. 37, 103.
 МЕТОД В ТЕОЛОГИИ
МЕТОД В ТЕОЛОГИИ
неизбежно отбирает то, что считает важным, и опускает то, что ему кажется незначительным. Такой отбор совершается до некоторой степени спонтанно, в силу некоей таинственной способности, которая нащупывает ожидаемое, группирует и выстраивает; которая обладает тактом, необходимым для оценки и уточнения; которая действует так, как если бы в уме историка существовал некий правящий и контролирующий закон перспективы, и отсюда, как результат исходной позиции историка, его окружения, его предпосылок, его образования, с необходимостью возникали бы именно те структуры и акценты, которые возникли. Наконец, этот результат нельзя описать как просто ре- | организацию старого материала: он представляет собой нечто новое. Он далеко не соответствует неистощимой сложности исторической реальности, но, будучи результатом отбора того, что с определенной точки зрения представляется значительным или важным, он действительно нацелен то, чтобы неким неполным и приблизительным способом осмыслить и изобразить историческую реальность69.
Именно этот неполный и приблизительный характер исторического повествования объясняет, почему история переписывается для каждого нового поколения. Исторический опыт переходит в историческое знание, только если историк задает вопросы. Вопросы можно задавать, только вводя языковые категории. Эти категории влекут за собой шлейф своих предпосылок и импликаций, окрашены дополнительными тонами забот, интересов, вкусов, чувствований, внушений и памятований. Историк в своей работе неизбежно испытывает влияние своего языка, образования, среды, а они с ходом времени неизбежно меняются70, рождая спрос и предложение на переписанную историю. Так, превосходные исторические труды, созданные в последние десятилетия XIX в., потеряли всякую привлекательность в тридцатых годах XX в., причем даже в глазах тех, кто полностью
69 Ibid., S. 47 f. Это место — превосходное описание процесса накопления
инсайтов, хотя сам Хойси придерживается мнения (pp. cit., S. 60), что Verstehen
относится только к более крупным этапам построения, а не к базовому консти-
тутированию исторического знания. Об отборе в истории см. Marrou, Meaning in
History, p. 200; Charlotte W. Smith, Carl Becker: On History and the Climate of Opinion,
Ithaca, N.Y.: Cornell University Press, 1956, pp. 125-130.
70 Heussi, Krisis, SS. 52-56.
ИСТОРИЯ И ИСТОРИКИ
разделяет религиозные, богословские, политические и социальные воззрения старших авторов71.
Причина, по которой историк не в силах выскользнуть из своего времени и места, состоит в том, что развитие исторического понимания не допускает систематической объективации. Математики подчиняются строгой формализации, дабы быть уверенными в том, что не допускают неузнанных инсайтов. Естествоиспытатели систематически определяются свои термины, точно формулируют гипотезы, строго разрабатывают предпосылки и импликации гипотез и осуществляют развернутые программы верификации через наблюдение и эксперимент. Философы могут прибегнуть к трансцендентальному методу. Но историк пробивается сквозь путаницу исторической реальности, опираясь на тот же тип и способ понимания, что и мы, прочие люди, в нашей повседневной жизни. Исходным пунктом служит не набор неких постулатов или общепринятая теория, а все то, что историк уже знает и что принимает за достоверное. Чем умнее и культурнее историк, чем шире его опыт, чем более он открыт ко всем человеческим ценностям, чем лучше и строже его образование, тем выше его способность к открытию прошлого72. Если исследование продвигается успешно, то инсайты историка настолько многочисленны, сопрягаются столь спонтанно, дополняют, уточняют или корректируют друг друга столь живо и непосредственно, что историк может объективировать — не всякий поворот и разворот в генезисе своего открытия, но лишь общие линии картины, к которой он пришел на данный момент73.
Дата публикования: 2014-11-18; Прочитано: 362 | Нарушение авторского права страницы | Мы поможем в написании вашей работы!
