 |
Главная Случайная страница Контакты | Мы поможем в написании вашей работы! | |
Часть вторая 15 страница
|
|
А в августе 1918 года —сразу после приезда из Москвы: «Я, зритель трагедии русской, уже начинаю в душе сочувствовать бешеным нашим революционерам»77.
В декабре, опять же по возвращении из Москвы, еще более неожиданно: «Самое тяжкое в деревне для интеллигентного человека, что каким бы ни был он врагом большевиков — все-таки они ему в деревне самые близкие люди»78.
Вот так! И никуда от этого признания не денешься, и чувствуется в нем безутешная провальная правда одинокого человека, затерявшегося в мужицком море, и потому представить дело так, что в 30-е годы Пришвин ни с того ни с сего, от страха иудейска или еще по какой-то причине вдруг враз стал подкоммунивать, изворачиваться и лгать — значит искажать его духовный путь.
В семнадцатом году большевики представлялись ему выразителями плазмы, антигосударственного, разрушительно-
го начала и он выступал против них, в восемнадцатом он увидел, что они — плохие или хорошие — взяли (украли, ограбили — неважно) власть, с этих пор именно на них лежит ответственность за Россию как государство, и оттого инстинктивно отношение Пришвина к большевикам меняется.
Большевизм как власть виделся ему единственно возможным выходом из смуты. Неважно куда выйти — важно выйти, и любая власть лучше безвластия.
«Как это ни странно, а большевизм является государственным элементом социализма»79 — в устах писателя-государственника такое признание дорогого стоит.
В одном из вариантов написанной по горячим следам революционных событий повести «Мирская чаша» про ее героя комиссара Персюка — человека жестокого и властного, «едва отличного от мерзости» (мужиков, которые уклонялись от уплаты налога, в прорубь опускал), было сказано: «Персюк в своих пьяных руках удержал нашу Русь от распада»80.
Пришвиноведы традиционно предпочитают избегать этой непростой темы: прежде — потому, что Пришвин был не совсем правильным коммунистом, теперь — потому, что в той или иной мере, со своими поправками, но коммунистическим идеям сочувствовал.
Пришвин не был конъюнктурщиком, когда искал оправдания большевикам и новой власти; он не был одинок: больше половины профессиональных офицеров царской армии (то есть наиболее служивой части государства) перешли на сторону большевиков.
«Разгадка Брусиловых: (я — Брусилов) — я иду с ними (коммунистами), потому что они все-таки свои и ближе мне, чем англичане и французы»81.
И эта мысль для Пришвина не нова: еще в 1915 году он записал: «Может быть, нам было бы лучше, если бы какие-нибудь народы пришли к нам и разрушили государство, но беда в том, что, приходя и разрушая внешнее, они посягают и на нашу душу, на личность, вот отчего я враг немцев...»82
В отличие от многих более продвинувшихся на этом пути писателей он вовсе не настаивал на том, чтобы к штыку приравняли перо, не заигрывал с комиссарами, а во все времена стремился выработать собственное кредо: «Я не нуждаюсь в богатстве, славе, власти, я готов принять крайнюю форму нищенства, лишь бы остаться свободным, а свободу я понимаю как возможность быть в себе...»83
«Пора бросать придавать значение этим разным словам революции: «большевизм», «коммуна» и пр., все равно, как бы ни называться, где бы ни быть, нужно оставаться чело-
веком, и потом из этого сами собой возникнут настоящие живые лозунги»84.
Пришвин стоял на той точке зрения, что существуют, с одной стороны, идея большевизма, а с другой — национальные формы, в которых большевизм выражается, и точно так же есть два пласта коммунистической идеологии: подземный источник русского коммунизма — разрыв с отцами и наземный — западные идеи («Эту обезьяну (коммуну) выдумал немец и выходил русский мужик (бунтарь)»85). Они боролись между собой, и находящийся в эпицентре этой борьбы мыслящий страдающий человек переживал невыносимое состояние разорванности, разделенности, как и окружавший его мир.
И вот в это чудовищное время (хотя Пришвин небезосновательно писал в первый день нового, 1919 года: «Вот вопрос: время величайшее, историческое, а мы тут мечтаем, как бы поскорее перескочить его...»86 или: «Теперь, верно, уже настало время разгадки русского Сфинкса, напр., хотя бы Петр, сколько спорили о том, добро он сделал для России или зло. Скоро можно будет это знать. Вообще история русская сведет концы»87) в личной жизни писателя неожиданно произошло, затянулось, закружилось событие, которому уделено чрезвычайно много места на страницах Дневника первых послереволюционных лет и которое отчасти позволит нам переключиться от высокой и низкой политики и исторических сравнений к обыденной и поэтической, вечной стороне бытия, ради которой оно, бытие, и творится.
Глава XIII КЛЮЧ И ЗАМОК
Много лет спустя после описываемых трагических событий в «Глазах земли», книге благостной и покойной, составленной из дневниковых записей конца сороковых — начала пятидесятых годов, Пришвин написал: «Чтобы понять мою «природу», надо понять жизнь мою в трех ее периодах: 1) От Дульсинеи до встречи с Альдонсой (детская Марья Моревна — парижская Варвара Петровна Измалкова); 2) Разлука и пустынножительство; 3) Фацелия — встреча и жизнь с ней.
И все вместе как формирование личности, рождающей сознание»1.
За этой трехчастной схемой стоит определенная легенда, своеобразное мифотворчество, которое исповедовал Пришвин, однако, выпрямляя свой путь к счастью, писатель одновременно обеднял его, и середина его жизни не была со-
вершенно пустой. Об этом знала и его вторая жена Валерия Дмитриевна Пришвина (в Дневнике имеются ее пометки именно к той пришвинской записи, которая вынесена в название этой главы), но по ей одной ведомым соображениям искажала реальное положение вещей, когда писала: «Всегда ему не хватало с женщиной какого-то «чуть-чуть», и потому он не соблазнялся никакими подменами чувства, не шел ни на какие опыты — он оставался строг и верен долгу в семье»2; «Если и бывала в прошлом измена, то лишь в мечте: жизнь прошла, по существу, как у юноши»3; «Не было никогда подмены в любви — никаких опытов: натура не позволяла»4.
Не так все это было, не в одной только мечте, и, чтобы природу Пришвина понять, надо попытаться восстановить истину и рассказать о женщине, в которую Пришвин был влюблен в период «разлуки и пустынножительства».
При всем том, что Ефросинью Павловну Михаил Михайлович давно не любил, как муж он долгое время сохранял ей верность и причиной тому откровенно и прямо называл «боязнь нечистых связей: особая боязнь — болезнь»5, и это целомудрие, вынужденное или нет, — еще одно коренное отличие его от довольно легкомысленной и распущенной литературной богемы начала века*.
Бывал ли он до 1918 года, то есть за почти полтора десятка лет брака влюблен, пусть даже платонически, сказать трудно.
По-видимому, нет: сердце писателя было отдано далекой Варваре Петровне Измалковой, которая навсегда осталась для него в Лондоне, хотя именно в это время она снова объявилась в Петербурге, и одному Богу ведомо, что могло бы выйти из случайной встречи, буде вдруг двое парижских влюбленных из Люксембургского сада столкнулись на голодных улицах революционного града либо на аллеях в Летнем саду.
Впрочем, на этих улицах внимание Пришвина в ту пору занимала иная особа. В Дневнике 1917—1918 годов большое место отведено некой Козочке, Софье Васильевне Ефимовой, соседке Михаила Михайловича по дому на Васильевском острове. Ей было в ту пору всего восемнадцать лет (а
 * В рассказе «Невидимый класс» (в собр. соч. советского времени он вошел под названием «Радий») герой, купец по прозвищу Самородок (прообразом которого был все тот же Павел Михайлович Легкобытов), проповедуя половое воздержание, убеждал рассказчика: «Нет ничего драгоценнее металла радия, а капли, семена жизни, я считаю, еще до-роже.(...) А они не берегли, — указал Самородок на проезжавших в автомобилях богатых людей. — Их дни сочтены...»
* В рассказе «Невидимый класс» (в собр. соч. советского времени он вошел под названием «Радий») герой, купец по прозвищу Самородок (прообразом которого был все тот же Павел Михайлович Легкобытов), проповедуя половое воздержание, убеждал рассказчика: «Нет ничего драгоценнее металла радия, а капли, семена жизни, я считаю, еще до-роже.(...) А они не берегли, — указал Самородок на проезжавших в автомобилях богатых людей. — Их дни сочтены...»
может, и меньше, Пришвин в оценке девичьего возраста был по обыкновению противоречив), и сохранилась фотография невзрачной, с острыми чертами лица («холодный нос, детские губы с ложбинкой», «глаза козьи, жаждет жизни, копит по 3 р. в месяц на поездку по Волге»6), по-видимому, не очень умной, но влюбчивой и одновременно с тем расчетливой девицы, к которой Пришвин испытывал симпатию, называл своей племянницей и по ее поведению замечательно судил о двух революциях: в феврале семнадцатого Козочка прыгала от радости, восхищалась красными флагами и пела с толпой «Вставай, подымайся!», а в ноябре ей стало все противно*, и она, как Шарлотта Корде, мечтала убить Марата, только не знала, кто в России Марат — Ленин или Троцкий? Когда в январе 1918-го Пришвин был арестован, она при- • ходила к нему в тюрьму, и именно этот эпизод перекочевал позднее в «Кащееву цепь», где к заключенному Алпатову под видом невесты приходила посланница партии Инна Ростовцева: во всяком случае, на той фотографии, где изображена худенькая, остролицая, нахохлившаяся Козочка, рукою Пришвина написано: «Моя тюремная невеста»**. Он размышлял над ее судьбой, и мысли писателя о будущем этой девушки, чья молодость пришлась на годы русской смуты, перекликаются с известными бунинскими раздумьями о русских гимназистках: «Опять несет мокрым снегом. Гимназистки идут облепленные им — красота и радость. Особенно была хороша одна — прелестные синие глаза из-за поднятой к лицу меховой муфты... Что ждет эту молодость?»7***
 * К этой идее противопоставления двух революций Пришвин вернулся три года спустя — в пору кронштадтского восстания: «Замечательно, что именно в Феврале каждый год поднимаются надежды, похожие на воспоминание февральского чувства свободы, пережитого в 1917 году, и каждый год в Октябре погружаются в безнадежность, как будто это два естественных праздника света и тьмы» (Пришвин М. М. Дневник. Т. 3. С. 146-147).
* К этой идее противопоставления двух революций Пришвин вернулся три года спустя — в пору кронштадтского восстания: «Замечательно, что именно в Феврале каждый год поднимаются надежды, похожие на воспоминание февральского чувства свободы, пережитого в 1917 году, и каждый год в Октябре погружаются в безнадежность, как будто это два естественных праздника света и тьмы» (Пришвин М. М. Дневник. Т. 3. С. 146-147).
** В «Черных тетрадях» у Зинаиды Гиппиус есть странная запись, относящаяся к освобождению Пришвина из неволи: «На досуге запишу, как (через барышню, снизошедшую ради этого к исканиям влюбленного под-комиссара) выпустили безобидного Пришвина» (Гиппиус 3. Н. Дневник. Т. 2. С. 270). Досуг для Зинаиды Николаевны так и не настал и новых комментариев не последовало, но нет сомнения, что речь идет именно о Козочке — больше не о ком. Другое дело — верить или не верить г-же Гиппиус, да и откуда вообще эта версия возникла? Возможно, от Ремизовых, которые устроили очередную мистификацию.
*** Поразительно, как в 1932 году Пришвин практически повторяет ту же мысль: «Мягкая погода, чуть метет. Бегут по улице барышни, их не видишь, — так они чем-то одна на другую похожи: бегут, бегут, как поземок, и больше ничего не остается от них» (Пришвин М. М. Дневник 1932 года. С. 163).
Разница и в возрасте, и в житейском опыте между Пришвиным и Софьей Васильевной была огромная, но некий намек на эротический оттенок их отношений все же встречается и перекликается с революционным падением нравов. «И Козочка моя, которую родители готовили для замужества, просит целовать себя не христианским поцелуем, а языческим, она сама не замечает, как, попадая в кометный хвост, она день за днем забывает «нашу революцию», и теперь ее жизнь — стремление поскорее сгореть»8.
Но от такой развязки Пришвин себя удержал и несколько лет спустя, оценивая историю ретроспективно, написал (в третьем лице — но речь шла именно о Козочке): «В этом смешанном чувстве было два главных, одно, которое давало направление дружбе спокойной и светлой, а другое, увлекавшее вниз. С этим низменным чувством он вступал в борьбу и успевал иногда от него отделаться»9.
Революция революцией, но, как и положено девушке в ее возрасте, Софья Васильевна мечтала о женихах и даже была готова на роман с каким-то безымянным, но о-очень благородным кавказцем («с кинжалом» — язвительно, а может, уязвленно добавлял Пришвин), или выйти замуж за немца: сватался к ней некий прапорщик Горячев, и она советовалась с писателем, выходить за него или нет. На возможность брака между Пришвиным и Ефимовой намекала мать Софьи Васильевны, которой Пришвин в свойственной ему полушутливой-полусерьезной манере (где одно нельзя отличить от другого) сказал: «— Заявляю вам, что люблю одну Козочку и больше никого, ее единственную.
А она:
— Когда же венчаться.
Логика тещи»10.
Любила ли та барышня Михаила Михайловича Пришвина, который ей по возрасту в отцы годился, сказать трудно, в Дневнике мешаются реальные факты и наброски к какому-то художественному произведению, умиление и нежность в сердце писателя («Коза — это бал мой»") сменяются раздражительностью и чуть ли ненавистью к своей молодой соседке «за эту шляпу-лепешку, за кофту какую-то полукитайскую... и ходит она странно — стремительно шагая куда-то вперед, будто несется полуптица, полуощипанная птица, хочет и не может улететь»12.
«Она подбирается к душе моей болеющей, как утренняя звезда подбирается к бледному месяцу, и он видит, что напрасно светил всю ночь и творил очарование предметов, — никакое лунное очарование не сравнится с лучами, создаю-
щими жизнь новую, и бледный месяц скрывается в небе, и с ним скрывается утренняя звезда, неизменная и любимая вестница его исчезновения»13.
Именно эту небесную, обреченную на исчезновение в огне нового дня Козочку писатель сделал героиней «Голубого знамени», вернее, племянницей главного героя — купца Семена Ивановича. В этом недооцененном критикой рассказе она — актриса, которая ездит в Париж танцевать, путается с актерами и кончает жизнь самоубийством, и именно эта ужасная смерть отпугивает робкого героя, так что он в последний момент не решается ехать на похороны, вместо чего попадает в революционный Петроград, где и сходит с ума.
Глядя из восемнадцатого года, трудно сказать, насколько проницательно провидел Пришвин судьбу своей юной соседки, но, по-видимому, она действительно страдала от бедности, пыталась устроиться на службу к большевикам, куда ее не взяли. Возможно, Пришвин привлекал ее как писатель, хотя судил он о ней со свойственной ему порою безжалостностью («Тоже драма: она хочет войти в сферу высшей любви и гонится за писателями и художниками: в сущности это и есть мещанство в изуродованном виде»; «У Козы мне нравится ее мертвая хватка: вцепится, позеленеет и не выпустит: ее почти цинизм, как заключение сложной внутренней борьбы, в истоках своих имеющую грусть-тоску и готовность смело отдаться порыву»14), но весной он уехал в Елец, и Софья Васильевна в течение многих лет не появлялась ни в его жизни, ни на страницах Дневника*, так что оставалось лишь гадать, что произошло с этим одновременно восторженным и прагматичным созданием, случайно попавшим в большую литературу, уцелела она в советском лихолетье или нет, и даже самая последняя пришвинская запись о ней, относящаяся к началу страшного двадцатого года, мало что проясняет: «Козочка — в ней нет ничего, она погибает, как цветок под косою...»15
Однако, быть может, именно это смутное чувство «козлоногого фавна», как Пришвин чуть позднее себя называл,
 * Правда, летом 1918 года покинув Петроград, Пришвин написал остававшемуся в городе А. М. Ремизову, с которым сам уже больше так и не увиделся: «Еще вот что прошу: наведайтесь в мою квартиру, цело ли там все мое добро и существует ли племянница моя София Васильевна. Она писала мне, что хочет покончить с собой из-за голода, а я ей послал уже месяц тому назад записку к Кугелю на получение 200 р<уб-лей>, но с тех пор писем от нее не имею. Не думаю, чтобы из-за голода она могла что-то проделать: с ней мать и брат, и не такого склада девица. Но все-таки надо же знать, в чем тут дело — узнайте и напишите» (Русская литература. 1995. № 3. С. 207).
* Правда, летом 1918 года покинув Петроград, Пришвин написал остававшемуся в городе А. М. Ремизову, с которым сам уже больше так и не увиделся: «Еще вот что прошу: наведайтесь в мою квартиру, цело ли там все мое добро и существует ли племянница моя София Васильевна. Она писала мне, что хочет покончить с собой из-за голода, а я ей послал уже месяц тому назад записку к Кугелю на получение 200 р<уб-лей>, но с тех пор писем от нее не имею. Не думаю, чтобы из-за голода она могла что-то проделать: с ней мать и брат, и не такого склада девица. Но все-таки надо же знать, в чем тут дело — узнайте и напишите» (Русская литература. 1995. № 3. С. 207).
послужило прелюдией к роману, который развернулся в Ельце, и героиню его, по какому-то владимиро-соловьевскому совпадению, звали, как и Козочку, Софьей.
Начало этого романа относится к лету восемнадцатого года, и так случилось, что личная любовь стала фоном всеобщей русской трагедии, а трагедия оттенила горький и единичный сюжет счастливой любви. Дневник писателя за 1918 год в одинаковой мере наполнен и личным, и общественным содержанием, где одно на первый взгляд противопоставлено другому, но на более глубинном уровне обнаруживается их родство и общность.
«21 июля. Начало романа. Корни. Бежал от ареста большевиков, а попал под арест женщины, и вот уже неделю живу, как самый мудрый сын земли, задом к городу, лицом к тишине и странным звукам елецкого оврага у Сосны — хорошо!..»16
А была эта пленившая писателя женщина замужней дамой, и не просто замужней, а женой лучшего пришвинского друга и однокашника по елецкой гимназии, а также и тюремного узника по революционным делам Александра Михайловича Коноплянцева, того самого, кто давал молодому марксисту-бебелевцу приют после возвращения в Елец из тюрьмы, кто помог ему перебраться после агрономических мытарств в Питер и настроил заняться литературным трудом, исследователя творчества Константина Леонтьева (он был одним из составителей сборника «Памяти К. Н. Леонтьева». СПб., 1911), розановского ученика (Розанов упоминает его в «Опавших листьях») и честного российского, а затем и советского чиновника.
До этого Коноплянцев был, по-видимому, счастлив в браке: не случайно еще в 1915 году Пришвин записал: «Человек бывает очарован вещами (...) Александр Михайлович — поповной»17, но в течение девяти лет безмятежной жизни этой супружеской пары Пришвин жену друга недолюбливал («В Коноплянцеве нет никакой скорлупы, чистое ядрышко, а что такое Софья Павловна? золоченый елочный и пустой в середке орех»18), и она платила ему тем же. Александр Михайлович, если верить Пришвину, был о своей половине тоже не слишком высокого мнения, хотя сошлись они за чтением Байрона, что для благовоспитанной поповой дочки выглядит несколько пикантно, безуспешно пытался нацелить ее на учительскую работу, как супругу весьма ценил («Она ничего из себя не представляет, но зато уж верная, вот уже верная!»19), совершенно ей доверял, рано успокоился, растолстел, и вот что-то в одночасье пе-
ременилось, случайная встреча, письмо, разговор, приглашение на обед...
Что именно случилось, насколько было это неизбежно — волновало и Пришвина, внесшего смятение в чужую жизнь.
«Мне кажется, Ульяне (еще один пришвинский излюбленный и распространенный в Дневнике прием: время от времени наделять реальных людей выдуманными именами, так, Софья Павловна у него то Ульяна, то Липа, то Ланская, то Мстиславская. — А. В.) за ним так должно быть хорошо, надежно до конца, с ним она должна быть счастлива и навсегда быть с ним, и всякие помышления на перемены странны. Все-таки есть в заборе их огорода какая-то трещинка, и лунный свет через нее пробивается, и в нем Ульяна — моя, не хочу, не желаю, злюсь очень много на себя и даже на нее, но... это есть и, верно, так повсюду»20.
Поначалу, когда все только весною начиналось, Пришвин пытался противиться любви во имя мужской дружбы («Только теперь, посмотрев на Александра Михайловича, понимаю — какое счастье, что я не оказался вором — нет!»21), но очень скоро сопротивление слабеет и чувство долга сходит на нет: «Попал к ней под арест — попался, но кажется, и она попалась: пьяные вишни и воровской поцелуй. Ничего-то, ничего я не понимаю в женщинах и еще мню себя писателем!»22
Она вошла в его жизнь владычицей, хозяйкой: «Теперь она, эта презираемая мной когда-то поповна, одним щелчком вышвырнула за окошко мою Козочку, убежище мое — Ефросинью Павловну — показала во всей безысходности, а свое духовное происхождение представила, как поэму. Ничего, никогда мне это не снилось. (...)
Пусть она будет моя героиня, блестящая звезда при полном солнечном свете... Пишу, как юноша, а мне 45 и ей 35 — вот чудно-то!»23
Удивительно, как удалось ей стать героиней целомудренного, одинокого и верного сердца, была ли с ее стороны женская наивность или особый расчет, кокетство, страсть, а может, она «хотела позабавиться от скуки»24? Размышляя над этим, Пришвин приводит слова своей возлюбленной: «— Когда ты сказал: «Я могу влюбиться в девушку, но не в женщину бальзаковского возраста», — я подумала: «Ну хорошо, не пройдет двух дней, ты будешь мой». Тогда я начала игру, но вдруг сама попалась»25.
И действительно попалась, так что едва не оказались поломанными четыре судьбы. Но Пришвин и Коноплянце-
ва об этом не задумывались — их несло в языческом потоке революционных лет, как бедную, вытесненную из писательского сердца юную петербургскую барышню, а в основе всего лежал чистый эрос, недаром позднее Софья Павловна деликатно признавалась своему возлюбленному, что как женщина никогда не испытывала удовлетворения в брачной жизни, при том что в семейной была счастлива совершенно.
«Так растет виноградный сад у вулкана (...), — написал Пришвин, — и вот Везувий задымился — что-то будет?»26
Вот одна из сцен начала пришвинского адюльтера, исполненная в духе «Темных аллей», со всеми атрибутами — усадьба, ночь, луна — сцена, более похожая на прозу (даже несколько ритмизованную), нежели на торопливую дневниковую запись: «Три дня лил дождь, сесть было некуда — такая везде сырость, мы проходили мимо омета с соломой, разгребли до сухого и сели в солому; из-за парка огромная, как будто разбухшая от сырости, водянисто-зеленая поднималась над садом луна. Мы сидели на соломе напряженно-горячие, пожар готов был вспыхнуть каждую минуту. Вдруг в соломе мышь зашуршала, она вскочила испуганная и под яблонями при луне стала удаляться к дому. Я догнал ее.
— Соломинку, — сказала она шепотом, — достаньте соломинку.
Я опустил руку за кофточку и вынул соломинку.
— Еще одна ниже.
Я ниже опустил руку и вынул.
— Еще одна!
С помраченным рассудком я забирался все дальше, дальше, а вокруг была сырая трава и огромная водянистая набухшая луна.
— Ну покойной ночи! — сказала она и ушла к себе в комнату.
А я, как пес, с пересохшим от внутреннего огня языком, с тяжелым дыханием, стою под огромной водянисто-огромной луной, безнадежно хожу: в спальне дети, тут сырая трава и водяная луна охраняет честь моего отсутствующего друга ...»27
Состояние этой любви было для Пришвина ново, и со всей своей дотошной писательской, исследовательской страстью он кинулся его описывать. Прошу прощения у читателя за обильное цитирование Дневника, но лучше само-
 го влюбленного историю его любви не расскажет никто. Трудность заключается лишь в том, что летом восемнадцатого года Дневник писался не в одной, а в нескольких тетрадях, в нем перемежаются даты, август сменяется июлем, а сентябрь августом, но очевидно одно — в то лето и только лето — Михаил Пришвин был по-настоящему влюблен и счастлив.
го влюбленного историю его любви не расскажет никто. Трудность заключается лишь в том, что летом восемнадцатого года Дневник писался не в одной, а в нескольких тетрадях, в нем перемежаются даты, август сменяется июлем, а сентябрь августом, но очевидно одно — в то лето и только лето — Михаил Пришвин был по-настоящему влюблен и счастлив.
«На вопрос: «Не люблю, как... а почему рука ваша?..»: одни начинают любовь с поцелуев пяток, эти меняют женщин, как белье, другие встречают ее в заоблачном мире в бесплотности и потом несмело целуют руку, встречают глаза, губы и так она встает среди белого дня, как видение, и тело ее, настоящее, земное, поражает, как осуществленное сновидение.
Это может случиться только в ранней юности или под самый конец, а середина существования наполняется какой-то жизнью под вопросом: посмотри, мол, как это у всех совершается.
Сказано слишком много: так разойтись и быть равнодушными друг к другу невозможно»28.
«Любовь женщины в 35 лет имеет свои мучения, с одной стороны, поднимаются все неизведанные девичьи чувства, а с другой, навстречу им страсть опытной в любви женщины».
«Мы сблизились, потому что страшно одиноки были...»29
«Сержусь сам на себя и капризничаю. Спрашивается, отчего смута и отчего противоречия, — как будто сама не понимает: по обе стороны семьи, и тут это таинственное путешествие.
Письмо — это любовь по воздуху, как у Новгородского дурачка, который влюбился в дочь Соборного протоиерея «по воздуху» и потом посылал ей письма с адресом «Преблагословенной и Непорочной деве Марии», хотя на том же конверте приписывал: «Собственный дом соборного протоиерея о. Павла».
Кончится тем, что стыдно потом будет встретиться»30.
Конечно, назвать его состояние абсолютным счастьем невозможно, но долгое время все препятствия казались преодолимыми, и он был странно беспечен и благодушен — состояние, похожее на козочкин, а даже и на пришвинский восторг от Февральской революции («преступление это будет прощено...», «святая ложь февральских любовников и гнусная правда октябрьского вечного мужа»31).
Последняя запись требует определенной расшифровки. Пришвин во все времена стремился к тому, чтобы смотреть на свою личную жизнь сквозь призму общественных
отношений. Пытаясь определить роль интеллигенции, одинаково ненавидимой большевиками, стихией, воплощенной для него в образе Николая Семашко, с одной стороны, и той силой, которую он охарактеризовал как «святое начало» и связывал с образом Франциска Ассизского - с другой, он называл интеллигента любовником, чарующим словами. Словами прекрасными, но лживыми в противовес «правде» вечного мужа — образ, восходящий к Достоевскому.
Но — «к мужу я совершенно не ревную, мне кажется это неважным обстоятельством (какою-то «естественной потребностью»), только смущает, что он будет закрывать от меня ее душу, как вьюшка трубу. (...)
Нет, я не боюсь этой страсти, я заслужил это счастье, я прав»32.
Тем временем в Москве свершилось убийство Мирбаха, левоэсеровский мятеж, позднее отозвавшийся неприятностями в судьбе пришвинских литературных друзей, произошло в тылу восстание чехословацкого корпуса, в Екатеринбурге был расстрелян государь, дошло до Ельца известие о гибели Ленина, именно так — о гибели, на самом-то деле это было покушение Фанни Каплан, и Пришвин отозвался на сенсационную новость совершенно замечательной в своем роде записью («Странно, как будто это убили бешеную собаку, и нет! а вот какую-то грешно-полезную собаку, которая пущена была сделать наше же дело и нам же, а теперь как ненужную уже ее где-то пристукнули»33, да и вообще пришвинская лениниана — это особая статья), страна стояла на пороге гражданской войны, но в какой-то момент все это было писателю совершенно неважно и... не стыдно от того, что он счастлив, «когда вокруг бедствие».
«И пускай! провались весь свет — я буду счастлив! (цвет побеждает: та роковая ночь, как борьба креста и цветов и победа цветов)»34.
Он видел в своей незваной и преступной несвоевременной любви некую правду, вызов, который бросал окружавшей его чудовищной жизни даже не сам он или соблазнившая его женщина, но какая-то более мощная и властная сила.
«Гений Рода между тем уже ставил престол свой в разоренной России, ему не было никакого дела до гражданской войны, бесправия, даже голода, даже холеры.(...) Гений родовой жизни всюду в разделенной стране брызгал части живой водой, и части срастались и начинали жить совсем
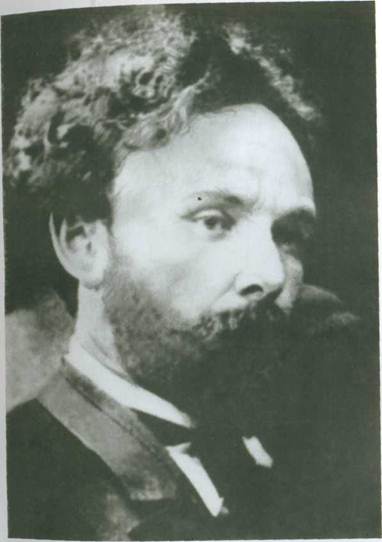
|
по иным законам, которые хотели навязать природе «бездушные» человеки. Так и мы под покрывалом идеальной дружбы мужчины и женщины двигались в чувствах своих от поцелуя руки до поцелуя ноги и неизменно шли к «последствиям» по общей тропе, проложенной радостным гением Рода»35.
Он противопоставил эту силу истории и культуре, она поддерживала и спасала его, и позднее подобный выход откроется пришвинскому герою Алпатову.
Гений рода, по Пришвину, это особая территория, на которую нечаянно вступают влюбленные, воображая, что нашли некий им одним ведомый секрет и ставят его себе в личную заслугу, в то время как гений рода — территория безличная (можно было бы сказать «чан»), и поэтому мудрые наши предки выдавали своих дочерей замуж за неведомых женихов: «Своя воля в поисках счастья — свое препятствие счастью, и если все-таки приходит счастье, то приходит, обходя "свою волю"»36.
И если, продолжает свою мысль писатель, люди нашли друг друга, то нашли они всего лишь берег этой обетованной земли... (Не поэтому ли и старый его знакомый Павел Михайлович Легкобытов с такой бытовой легкостью женил по своему усмотрению своих подопечных сектантов?)
Гений рода — это чему служат все безумные действия людей, где все перепуталось: «и зло, и добро, и истина и ад, правда и ложь — все одинаково служат гению Рода»37.
Идея, очень близкая к розановской, — не случайно немногим позднее решительно восставший против советской литературы 20-х годов, где так же владычествовала тема
эроса, но вульгарно понятая («у молодых авторов эротическое чувство упало до небывалых в русской литературе низов (...) Почему же вы, молодые русские писатели, дети революции, вчера носившие на своей спине мешки с картошкой и ржаной мукой, бежите, уткнув носы в зад, как животные в своих свадьбах»38), Пришвин противопоставлял новой культуре своего знаменитого, незадолго до того скончавшегося в Сергиевом Посаде «литературного опекуна».
Дата публикования: 2014-11-04; Прочитано: 468 | Нарушение авторского права страницы | Мы поможем в написании вашей работы!
