 |
Главная Случайная страница Контакты | Мы поможем в написании вашей работы! | |
ГК УССР 1963 г
|
|
ГК УССР был принят 18 июля 1963 г. и введен в действие с 1 января 1964 г.
ГК состоял из преамбулы и 8 разделов, содержащих 572 статьи. Названия разделов: I — «Общие положения»; II — «Право собственности»;!!!— «Обязательственноеправо»; IV— «Авторскоеправо»; V — «Право на открытие»; VI — «Изобретательское право»; VII — «Наследственное право»; VIII — «Правоспособность иностранцев и лиц без гражданства. Применение гражданских законов иностранных государств, международных договоров и соглашений ».
Среди наиболее характерных моментов, отличающих этот Кодекс от прежде действующего ГК УССР 1922 г., прежде всего следует назвать такие:
1) по своей структуре ГК 1963 г. заметно отошел от пандектной
системы. В нем не было норм, регулирующих семейные отношения,
но предусмотрены разделы, посвященные авторскому и изобретатель
скому праву;
2) раздел II называется «Право собственности», а не «Вещное
право», как ранее. Это отражает тенденцию к сокращению числа вещ
ных прав. Среди видов собственности не упоминается частная соб
ственность;
3) значительно расширен перечень обязательств. В частности, по
явились разделы о поставке, контрактации, займе, подряде на капи
тальное строительство, расчетных и кредитных отношениях, пожиз
ненном содержании, спасании социалистического имущества и др.;
4) произошло перераспределение материала внутри разделов и
между разделами. Так, нормы о доверенности из раздела «Обязатель
ственное право» были перенесены в раздел «Общие положения»,
поручительство — из договорных обязательств было перемещено в
раздел XVI, посвященный обеспечению исполнения обязательств,
вместе с нормами о залоге, которые находились среди вещных прав;
5) были обновлены, отредактированы и согласованы положения
ряда статей ГК. Кроме того, все они, очевидно, по примеру Немецко
го гражданского кодекса получили наименования, которые следова
ло учитывать при толковании соответствующей нормы.
Однако наиболее важные изменения произошли в содержании и направленности норм.
Раздел I содержал общие положения об основаниях возникновения гражданских прав и обязанностей, осуществлении гражданских прав и их защите, о субъектах права, представительстве, доверенности, исковой давности.
В этом разделе наряду с либерализацией некоторых норм (например, частичным закреплением в ст. 4 принципа, известного еще римскому праву: «разрешено все, что не запрещено законом»), были
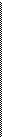

 усилены средства ограничения инициативы и самостоятельности участников гражданских правоотношений. Так, ст. 5 ГК 1963 г. бо-. лее жестко определяла последствия злоупотребления правом, предусматривая, что гражданские права охраняются законом, за исключением случаев, когда они «осуществляются вопреки назначению этих прав в социалистическом обществе в период строительства коммунизма». При этом от физических лиц и организаций требовалось не только соблюдение законов, но и уважение к «правилам социалистического общежития и моральных принципов общества, строящего коммунизм».
усилены средства ограничения инициативы и самостоятельности участников гражданских правоотношений. Так, ст. 5 ГК 1963 г. бо-. лее жестко определяла последствия злоупотребления правом, предусматривая, что гражданские права охраняются законом, за исключением случаев, когда они «осуществляются вопреки назначению этих прав в социалистическом обществе в период строительства коммунизма». При этом от физических лиц и организаций требовалось не только соблюдение законов, но и уважение к «правилам социалистического общежития и моральных принципов общества, строящего коммунизм».
Важной новеллой в сфере защиты гражданских прав была ст. 7, которая предусматривала возможность гражданско-правовой защиты чести и достоинства физических лиц и организаций.
Субъектами гражданских правоотношений Кодекс признавал физических лиц и организации — юридических лиц. Государство не упоминается специально как субъект гражданско-правовых отношений, но такой его статус вытекает из содержания отдельных норм (например, о праве собственности, о наследовании и др.).
ГК 1963 г. полнее и точнее, чем предыдущий Кодекс, определил понятие юридического лица. Однако отсутствовало указание на соотношение понятий «организация», «предприятие», «учреждение», которыми оперировал законодатель; не было и самого определения этих категорий.
Кодекс не содержал норм, специально посвященных определению объектов права. Значительная часть их размещена в тех или иных статьях раздела «Право собственности». Зато в «Общих положениях» значительное внимание уделено сделкам. Более детально регламентирована форма сделок, а также основания и последствия признания их недействительными.
Кроме того, раздел I дополнен положениями о представительстве и доверенности.
Раздел II «Право собственности» характерен для «законодательства страны, которая построила социализм и перешла к постепенному строительству коммунистического общества».
Во-первых, право собственности закреплено как единое, официально признанное вещное право. Хотя в литературе была высказана точка зрения (А. Венедиктов) о том, что к вещным правам принадлежит также право оперативного управления, заметного распространения она не получила. Возможно, потому, что связи собственности и «оперативного управления» по характеру скорее административные, чем гражданско-правовые.
Во-вторых, в связи с ликвидацией частной собственности, изменениями экономического порядка, принятием новой Конституции СССР, изменилась классификация форм собственности. Кодекс исходил из существования социалистической собственности и личной
собственности физических лиц на имущество, предназначенное для удовлетворения их материальных и культурных нужд (стст. 87, 88 ГК).
Подробнее были урегулированы вопросы, связанные с осуществлением права общей собственности. Предусмотрено, что общая собственность может быть долевой (с заранее определенными долями) и совместной (без предварительного определения долей, которые, однако, допускаются одинаковыми).
Специальные нормы посвящены регулированию возникновения и прекращения права собственности, момента его возникновения, распределения риска случайной гибели и т.п.
Для защиты права собственности предусмотрен, прежде всего, виндикационный иск. Здесь привилегии государства по виндикации его имущества были дополнены аналогичными привилегиями для колхозов, других кооперативных и общественных организаций (ст. 146).
Нормы обязательственного права составляли главную часть содержания гражданских кодексов бывших союзных республик, в том числе и ГК 1963 г., где обязательствам посвящена 321 статья из 572.
Раздел III «Обязательственное право» состоял из двух частей. В первой регулировались общие положения обязательств — давалось их определение, названы (в отсылочной норме ст. 151 ГК) основания возникновения, указаны требования к исполнению обязательств.
В общем, положения обязательственного права были довольно традиционными. Более важными были новеллы о средствах обеспечения обязательств (выделенные и объединенные в отдельный раздел), а также определение условий ответственности за нарушение обязательств.
Если говорить об общих тенденциях, то можно выделить особое внимание законодателя к такому средству обеспечения, как неустойка. Теперь она стала не только договорною, но и могла следовать непосредственно из закона (причем сфера применения последнего неуклонно расширялась). Регулирование залога, наоборот, было не очень детальным. В частности, не упоминаются некоторые виды залога, существовавшие ранее (залог права застройки, залог права требования), не шла речь о перезалоге и т.п. Появилось также новое средство обеспечения обязательств — гарантия, которая была, по: сути, поручительством, но в отношениях между социалистическими организациями (ст. 196).
В отличие от ГК УССР 1922 г., где вина не фигурировала как условие ответственности за нарушение обязательств, ст. 209 ГК 1963 г. устанавливала, что лицо, которое не исполнило обязательство или исполнило его ненадлежащим образом, несет имущественную ответственность лишь при наличии вины (умысла или неосторожности), кроме случаев, предусмотренных законом или договором.
 Таким образом, был закреплен принцип ответственности «за вину с исключениями».
Таким образом, был закреплен принцип ответственности «за вину с исключениями».
Отдельным видам обязательств посвящена вторая часть этого раздела. Из многочисленных возможных вариантов построения системы обязательств законодатель избрал структуру, напоминающую Гражданский кодекс Франции 1804 г.:
1) договорные обязательства (купля-продажа, дарение, поставка,
контрактация, имущественный наем, наем жилого помещения, без
возмездное пользование имуществом, подряд, подряд на капиталь
ное строительство, перевозка, государственное страхование, заем,
расчетные и кредитные отношения, поручение, комиссия, хранение,
пожизненное содержание, совместная деятельность);
2) как бы договорные обязательства, т.е. обязательства, которые
возникают из односторонних действий (объявление конкурса);
3) обязательства из правонарушений (вследствие причинения
вреда);
4) обязательство из как бы правонарушений (вследствие приоб
ретения или хранения имущества без достаточных оснований).
Раздел IV «Авторское право», как и два следующих— «Пр; открытие» и «Изобретательское право», были новеллами ГК. і УССР 1922 г. такие виды отношений не упоминались вообще. Оі. входили в сферу правового регулирования специального законодательства — Закона УССР от 6 февраля 1929 г. «Об авторском праве», созданного на базе «Основ авторского права» — Закона СССР от 11 мая 1928 г. Такое решение было не очень удачным, и при второй кодификации гражданского законодательства положение исправили. При этом принципиальные решения указанных актов в значительной мере были перенесены в ГК 1963 г. Это касается определения авторского права, его субъектов, объема их прав, содержания авторских договоров и т.п.
Вследствие неоднократных изменений и дополнений (особенно после присоединения СССР ко Всемирной конвенции об авторском праве) многие положения этого раздела стали существенным образом отличаться от начальной редакции, а в процессе дальнейшего обновления законодательства утратили силу. Это касается и права на открытие, и изобретательского права.
Среди новелл наследственного права (раздел VII) следует упомянуть: установление очередей наследования по закону с равенством долей наследников одной очереди (стст. 529, 530), определение порядка наследования нетрудоспособными иждивенцами, усыновленными и усыновителями (стст. 531,532), расширение права распоряжения имуществом путем завещания с ограничением его только правом на обязательную часть (ст. 535). Предусмотрено, что завещание должно составляться в нотариальной форме, однако при этом значительно расширен круг случаев, когда простые письменные завеща-
ния приравниваются к нотариально удостоверенным (ст. 542). Среди завещательных распоряжений названы завещательный отказ (ле-гат) — ст. 538, подназначение наследника (наследственная субституция) — ст. 536, возложение на наследника обязанности выполнения действий для общеполезной цели — ст. 540, возложение на наследника обязанности предоставления другому лицу права пожизненного пользования домом — ст. 539.
§ 4. Трансформация концепции гражданского права в конце XX в.
В предыдущих параграфах говорилось об особенностях формирования гражданского права Украины и его концепции на первых этапах становления. Поступательное развитие правовых идей было прервано Октябрьским переворотом 1917 г. и последующими изменениями в политической жизни стран, которые находились в сфере влияния РСФСР, а со временем образовали СССР.
Для гражданского права это означало отказ от возможности его оценки как права частного, усиление публичных («административно-управленческих») основ в регулировании гражданских отношений, которое нашло отражение в принятых тогда гражданских кодексах и других актах гражданского законодательства.
Поэтому, отдавая должное достижениям советской цивилистичес-кой мысли, в том числе отечественной цивилистики, где работали такие выдающиеся научные работники, как М. Бару, С. Вильнян-ский, Г. Гордон, С. Ландкоф, В. Маслов, Г. Матвеев, А. Подоприго-ра, А. Пушкин и другие, можно, вместе с тем, указать, что гражданское право, как отрасль права, фактически приходило в упадок, будучи сведенным к совокупности актов гражданского законодательства.
Если принять за истину господствующий в то время тезис об адекватности правового регулирования существующим производственным отношениям, а также мировоззрению общества, то, допуская, что советское государство в 60—70-х годах вступало в фазу своего расцвета — период так называемого «зрелого социализма», можно предположить, что такой концепции гражданского права суждена была долгая жизнь. Гражданское законодательство СССР, гражданские кодексы союзных республик «воплощали и закрепляли достижения советского народа, содействовали созданию материально-технической базы коммунизма и формированию нового человека».
Однако во второй половине 70-х годов СССР начал терять темпы развития, начались неполадки в народном хозяйстве, торможение и стагнационные явления в экономике все ощутимее влияли на другие сферы общества, — так характеризовал состояние дел М. Горбачев — человек, который имел полную информацию о реальной ситуации в стране.
Следует добавить, что, вопреки внешнему благополучию, в конце 60-х — начале 70-х годов начался кризис коммунистического мировоззрения; в конце 60-х годов советские идеологи столкнулись с так называемым «еврокоммунизмом», который сформировался как система взглядов в крупнейших и влиятельнейших коммунистических партиях капиталистического мира и представлял собой прорыв из догматизма, фанатичного идеологизма и интеллектуальной суже-ности.
Провозглашенная в 1985 г. на апрельском Пленуме ЦК КПСС «перестройка» — новая экономическая и социальная политика — имела целью преодоление кризиса, должна была обеспечить радикальные изменения, улучшить ситуацию в стране. Это предполагалось сделать, используя возможности существующей общественной системы, для чего нужно было отыскать эффективные формы социалистической собственности и организации хозяйства. «Главное, чтобы человек стал настоящим хозяином производства».
Это требовало не только организационных изменений в системе хозяйства, но и соответствующего законодательного обеспечения, которое было невозможно без надлежащего теоретического обоснования. Поэтому в 80-х — начале 90-х годов большое внимание отводилось правовым аспектам демократизации общества, повышению реальной защищенности прав человека, усовершенствованию правового регулирования деятельности субъектов предпринимательства и т.п.
Вместе с тем обращение к таким общечеловеческим ценностям — «гражданское общество», «правовое государство», «суверенитет лица», «частное и публичное право», «рыночные отношения», восстановление известного еще римскому праву принципа «разрешено все, что не запрещено законом» и др. предопределяло целесообразность использования достояний предыдущих цивилизаций независимо от их классовой сути. (Следует отметить, что советские юристы довольно убедительно доказывали, что это не отказ от классических марксистско-ленинских установок на характер и формы классовой борьбы, но «крутой поворот в их толковании» с учетом общественно-политических реалий современного мировоззрения.)
В исследованиях происходит пересмотр ряда постулатов советской юридической доктрины.
В частности, в научное обращение снова вводятся такие понятия, как «гражданское общество», «правовое государство», которые ранее употреблялись советскими авторами обычно в контексте критики буржуазных правовых теорий и практики государственного строительства.
Изменение вектора и характера приоритетных направлений правовых исследований является характерной чертой этого времени. Если в первые годы перестройки главное внимание было сосредоточено на вопросах положения советского общества и государства, их
«неантагонистичных» противоречиях и проблемах, необходимости усовершенствования политических, правовых и государственных учреждений, то в конце 80-х годов приобретает распространение проблематика, связанная с формированием правового государства, характеристикой отношений индивид — общество — государство и т.п.
Конечно, нельзя утверждать, что вопросы определения правового статуса лица, усовершенствования законодательства, повышения его эффективности привлекли внимание научных работников только в этот период. В работах отечественных научных работников и ранее обращалось внимание на то, что составляющими повышения эффективности правового регулирования являются: усовершенствование концепции права (М. Козюбра, М. Орзих, М. Цвик), рост социальной и персональной ценности права, его демократизация, укрепление законности и т.п.
Обращает на себя внимание и то обстоятельство, что наряду с работами, где личность еще рассматривается как второстепенная (или даже «третьеразрядная», после государства и общества — В. Патю-лин, Н. Бобровая) категория, появляются публикации, где личности отводится центральное место (М. Орзих).
Этими и другими исследованиями фактически был создан базис для будущего обновления концепции права, в том числе гражданского.
В процессе исследования этих проблем восстанавливаются классические положения о понимании права как явления цивилизации, выдвигается тезис о построении права на пути от социализма к постсоциализму, что связывается с упомянутым выше поворотом к человеку, созданием постсоциалистической гражданской собственности, которую понимают как индивидуализированное право каждого советского гражданина на принадлежащую ему долю общенародного богатства (В. Нерсесянц — позднее он же использовал понятие «цивильная», «цивилитарная» собственность).
Своеобразной антитезой идеи «гражданской собственности» можно считать концепцию «акционерной социалистической собственно- сти». Если первая допускает «раздробление» общенародного богатства, то вторая рассматривается как «способная в своем развитии интегрировать в целостную систему высшего уровня, т.е. фактически способна превращаться в одну и ту же общенародную «социалистическую» собственность.
Впрочем, и та и другая позиции довольно неточные, поскольку их авторы связывают производные формы собственности именно с социалистическими формами хозяйствования. Такими же недостатками страдает концепция «хозрасчетной собственности». которая появилась почти одновременно с указанными (хотя предложенная взамен система форм собственности — общественная, коллективная, личная — была довольно близкой к существовавшей ранее). Очевидно, поэтому эти предложения не были поддержаны законодателями.
Вообще же, характер исследований проблем собственности в тот период отражает соревнование подходов к оценкам этого важного института. В то время как в целом продолжается анализ преимуществ социалистической собственности, в отдельных работах делаются попытки согласовать старые и новые взгляды. (Интересно, что в дискуссии о дееспособности концепции государственной собственности, предложенной А. Бенедиктовым, В. Мозолин подвергал критике, а Ю. Толстой защищал упомянутую концепцию, ссылаясь на юристов Древнего Рима, что отчасти свидетельствует о повороте в отношении советских цивилистов к римскому праву — от отрицательного или снисходительно критического — к положительному или взвешенно аналитическому.) Это явление вообще можно считать характерным для «перестройки», когда стали появляться публикации, посвященные другим системам права, собственности и т.п., имеющие целью не саму критику, как это часто случалось ранее (и не только у советских авторов, но и в трудах ученых других социалистических стран), но взвешенный анализ достоинств и недостатков той или иной концепции.
Постепенно вырисовываются основы принципиально нового для советской правовой системы подхода к оценке отношений собственности. В частности, происходит «реабилитация» частной собственности, более заметной становится важная тенденция изменения теоретического, а затем и практического подхода к оценкам возможности существования права собственности на такой специфический важный объект, как земля. Утверждается точка зрения, согласно которой государство в отношениях по использованию земли должно избавиться от сугубо административных методов регулирования, расширить сферу действия гражданского права. Справедливо отмечается, что изъятие земель из торгового оборота всегда будет ограничением как права трудового землепользования, так и права частной собственности, которое является большим достижениям человеческой цивилизации (эту позицию с некоторыми оговорками поддерживают и специалисты в области аграрного права (Ю. Жариков, Г. Чубуков, А. Погребной).
Таким образом, в начале 90-х годов наметился значительный прогресс в концептуальном подходе к определению основ правового регулирования собственности. Происходит постепенное, медленное приближение понимания этого института к тому, что имеет место в частном праве.
Трансформации теории права собственности, признание права частной собственности остаются составными частями общей теории суверенитета лица, которое продолжает находиться в центре исследований под разными углами зрения — в целом и в отдельных своих аспектах.
Как и ранее, внимание исследователей привлекают правовые аспекты отношений лица с государством и обществом, субъективные
права граждан. Но происходит дальнейшее важное смещение акцентов, о которых речь шла выше: прежде всего, подчеркивается значение личности в этих отношениях, напоминается, что следует идти не только от общества к личности, но и от личности (лица) к обществу. Значение субъективных прав личности в новых условиях образно охарактеризовал П. Рабинович, который назвал субъективное юридическое право лица ключиком, вручаемым ему государством, с помощью которого оно открывает себе доступ ко всем основным благам, необходимым для его существования и развития.
Но теперь круг правовых исследований в этом направлении не ограничивается лишь определением статуса лица, его возможностью иметь общие субъективные права и обязанности, частную собственность и т.п. Проблема рассматривается и с других точек зрения. В частности, анализируются правовые предпосылки экономической независимости индивида и т.п.
Среди экономических предпосылок независимости индивида исследуется такая довольно непривычная для советской правовой науки категория, как предпринимательство.
Следует отметить, что почти одновременно с признанием правомерности этого понятия в советском праве появляется тенденция толковать предпринимательское право как обновленное хозяйственное (в публикациях того времени обычно старались разграничить традиционное и «социалистическое» предпринимательство), что сопровождалось попытками вывести таким образом эти отношения за рамки гражданско-правового регулирования.
Эта позиция была подвергнута в литературе обоснованной критике, однако давняя дискуссия между «цивилистами» и «хозяйственниками» от этого лишь получила новый импульс, дискуссия даже перешла в более острую стадию при обсуждении путей обновления законодательства бывших союзных республик, отрицательно влияя на состояние законодательства.
Характерной особенностью исследований этого времени также стала активизация исследований социальной защищенности лица в новых условиях формирования правового государства и перехода к рынку, что вызвало естественное повышение интереса к вопросам справедливости, обеспечения правовых условий реализации прав, обязательных юридических гарантий и др.
К сказанному следует добавить, что идея строительства «общеевропейского дома», сформулированная М. Горбачевым во время визита в Чехословакию и подвергнутая детальному обсуждению в марте-апреле 1989 г. в Праге на международном коллоквиуме «Общеевропейский дом» — представление и перспективы», дала толчок исследованиям в области международного частного и публичного права, связи международного права с процессами правотворчества в СССР и т.п. Нужно заметить, что европейскую интеграцию западные
 авторы оценивали довольно осторожно, прогнозируя прежде всего политическое и культурное сотрудничество с постепенным образованием Европейского экономического пространства (что и подтвердил дальнейший опыт). Советские авторы представляли этот процесс более радикальным и характеризовали его в целом или с точки зрения оценки правотворчества (В. Кисиль, Н. Захарова). В любом случае новые исследования, новые подходы требовали и новой методологии исследований, нового мышления, что делало целесообразным обращение к теоретическим достояниям европейской цивилизации в области философии и права.
авторы оценивали довольно осторожно, прогнозируя прежде всего политическое и культурное сотрудничество с постепенным образованием Европейского экономического пространства (что и подтвердил дальнейший опыт). Советские авторы представляли этот процесс более радикальным и характеризовали его в целом или с точки зрения оценки правотворчества (В. Кисиль, Н. Захарова). В любом случае новые исследования, новые подходы требовали и новой методологии исследований, нового мышления, что делало целесообразным обращение к теоретическим достояниям европейской цивилизации в области философии и права.
Таким образом, постепенно Формировалась позиция, которую можно охарактеризовать как «движение назад — к механизмам прогресса».
Фактически речь шла о попытке методологической разработки вышеупомянутой идеи об обращении к «общечеловеческим ценностям» и в конечном итоге — о начале ориентации на рецепцию достояний предыдущих цивилизаций, в том числе — на рецепцию римского частного права.
Реализовать эти идеи попытались авторы проекта Основ гражданского законодательства, необходимость принятия которых стала очевидной после того, как в конце 80-х годов выявилось несовершенство законодательных работ начала перестроечного периода. Хотя за относительно небольшой промежуток времени был принят ряд важных законов СССР — о предприятии, о собственности, о кооперации, аренде и арендных отношениях и др., однако их качество не отвечало требованиям нового времени, значительная часть новелл к тому же имела декларативный, неконкретный или наоборот — казуистический характер. Традиционная ориентация хозяйственного законодательства СССР на собственный опыт, которая сложилась в 20-е годы, а также уверенность многих политических деятелей, хозяйственников и ученых в неиспользованных возможностях социалистической собственности нередко приводили к тому, что в качестве образца использовалось законодательство периода нэпа, которое само по сути было вторичным.
В связи с этим выдвигались предложения о создании общесоюз
ного Свода законов, Хозяйственного кодекса СССР или поглощении
Основами гражданских кодексов союзных республик. Однако они не
учитывали политические реалии того времени, когда даже целесооб
разность принятия таких Основ некоторыми учеными ставилась под
сомнение (В. Дозорцев, Е. Харитонов). «
Поскольку в декабре 1991г. СССР прекратил свое существование, превратившись в СНГ, вступление в силу Основ зависело от доброй воли бывших союзных республик. Например, в Российской Федерации Основы гражданского законодательства 1991г. были введен'ы в действие постановлением Верховного Совета от 14 июля 1992 г.
«О регулировании гражданских отношений в период проведения экономической реформы». Они действовали в Российской Федерации до принятия поэтапно первой, а потом второй части ГК РФ.
Следует отметить выраженную «рыночную», «частноправовую ориентацию», а также производную от нее рецепцию главных основ римского частного права Основ, которая проявилась в структуре, определении принципиальных подходов, признании суверенитета лица, возобновлении некоторых институтов, в свое время отброшенных советской цивилистической доктриной.
Украина по этому пути не пошла, поэтому Основы гражданского законодательства в нашей стране так и не вступили в силу.
Вместо этого в 1994 г. началась разработка новой концепции развития гражданского законодательства Украины, в основу которой были положены задекларированные ранее новые представления о праве, базирующиеся на идеях гражданского общества и правового государства (Ю. Шемшученко).
Дата публикования: 2014-11-02; Прочитано: 2532 | Нарушение авторского права страницы | Мы поможем в написании вашей работы!
