 |
Главная Случайная страница Контакты | Мы поможем в написании вашей работы! | |
Часть вторая 21 страница
|
|
«Так бывает счастливое сочетание возраста с темпераментом, когда мы теряем страсти, уймитесь, волнения! и в истории, когда предметы культа превращаются в экспонаты музея, когда пережитое встает без боли и сладости, а просто как материал для одумки через свое о людях больших и малых и том, что сделано ими в истории человечества»55.
И все же в этих проклятых вопросах, над которыми ломало голову и еще поломает не одно поколение русской интеллигенции, Пришвина не покидало своеобразное чувство игры, иронии: «В наше время скорбь о несчастных была нравственной обязанностью интеллигентного человека, теперь на себя эту обязанность взяло государство, поставившее себе девиз «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!», и это сделало бытие страдающего за других интеллигента бессмысленным»*56.
Серьезен ли он был, когда так писал, историческая слепота здесь или горькая насмешка, или же и то и другое разом варилось в его чану — самое поразительное в пришвинском curriculum vitae даже не это смягчение позиции (общественное, в конце концов, всегда легче поддается изменению, чем личное), а то, что именно в эти годы, когда поменялось отношение писателя к народу, крестьянству, государству, интеллигенции и к их прихотливым взаимоотношениям, произошло, казалось бы, невероятное, невозможное, но на самом деле вполне логичное и ожидаемое — он снова... полюбил свою Павловну. Из Дневника, как по Берендееву волшебству, исчезают раздражительность, обида, гнев на свою Ксантиппу и появляются уважение, заботливость и даже нежность к той, что была с ним уже почти два Десятка лет.
Павловна для него (теперь он называет ее только так, по
:*Ср. у Бунина: «Страшно сказать, но правда: не будь народных бедствий, тысячи интеллигентов были бы прямо несчастнейшие люди. Как же тогда заседать, протестовать, о чем кричать и писать? А без этого и жизнь не в жизнь была» (Окаянные дни).
 | |||
 | |||
отчеству) снова самый духовно близкий человек: «Через уважение к родным, некоторым друзьям, и, главное, через страстную любовь к природе, увенчанной своим родным словом, я неотделим от России, а когда является мысль, что ее уже нет, что она принципиально продалась уже другому народу, то кончается моя охота писать и наступают мрачные дни. И если я опять принимаюсь за работу, то исключительно благодаря близости Санчо (Павловны), умноженного ребятами»57.
«После охоты мы вернулись домой и вдвоем с Павловной, когда дети заснули, долго сидели за чаем»*.
В «Охоте за счастьем» именно мудрая Павловна спасла пришвинское ружье и тем самым вдохнула в писателя новые силы, а в «Родниках Берендея» он ласково назвал ее Берендеевной, душой своей лесной жизни.
Наконец, в «Журавлиной родине», этой писательской «лабораторной работе», которая создавалась несколько позже, вспоминая молодость, Пришвин спорил с покойной матерью, которая надеялась, что «это у него временное увлечение молодости, что впоследствии он одумается, эту бросит, а жену выберет себе настоящую, образованную. Тайный голос, однако, и тут нашептывал, что такие, как Михаил, все однолюбы, — это раз, и другое, что Михаил вообще с расчетом, выбором не может жениться»58.
Немолодые супруги жили во дворце подле большого озера, на берегу которого стоял город с десятками прекрасных церквей, все это было похоже на невидимый град Китеж, образ исчезнувшей страны, и возвращало обоих к недолго-, вечным временам их духовного родства.
«Глубоко вздохнула Павловна и тоже сказала: — Если бы я прежняя, девочкой, когда гусей стерегла, я подошла к тому озеру, и знаете что?
—Что, Павловна?
—Я бы на это помолилась»59.
 * А если и высказывался Пришвин в эту пору о супруге критически, то старался быть объективным: «Е. П. — у нее доброта и злость, ум и глупость проникают друг в друга насквозь, как в природе» (Архив В. Д. Пришвиной. Дневник М. М. Пришвина. 14.2.1926); «Если она не выходит из-под (скажем) руки — это превосходная, добрая и умная женщина и такая вся наша Россия, весь народ» (Там же. 2.11.1927). «Е. П-а вовсе разбаловалась (...) Сердиться на нее невозможно, но меня иногда бесит ее воркотня, потому что под ней скрывается неуважение и зависть раба к умственному труду: что-то не личное, а вообще русское» (Там же. 12.01.1928); «Меня страшат те вспышки ненависти, которые иногда пересекают в общем уютную нашу жизнь с Е. П., я боюсь, что в бешенстве когда-нибудь разломается эта жизнь» (Там же. 18.11.1927).
* А если и высказывался Пришвин в эту пору о супруге критически, то старался быть объективным: «Е. П. — у нее доброта и злость, ум и глупость проникают друг в друга насквозь, как в природе» (Архив В. Д. Пришвиной. Дневник М. М. Пришвина. 14.2.1926); «Если она не выходит из-под (скажем) руки — это превосходная, добрая и умная женщина и такая вся наша Россия, весь народ» (Там же. 2.11.1927). «Е. П-а вовсе разбаловалась (...) Сердиться на нее невозможно, но меня иногда бесит ее воркотня, потому что под ней скрывается неуважение и зависть раба к умственному труду: что-то не личное, а вообще русское» (Там же. 12.01.1928); «Меня страшат те вспышки ненависти, которые иногда пересекают в общем уютную нашу жизнь с Е. П., я боюсь, что в бешенстве когда-нибудь разломается эта жизнь» (Там же. 18.11.1927).
«Ренессанс» — впрочем, непродолжительный — в отношениях с женой (и соответственно с народом) был отчасти связан и с написанием заключительных частей автобиографического романа «Кащеева цепь», повествовавших о юности протагониста, когда, заново переживая историю своей любви и молодости, вспоминая ее героинь, Пришвин признал, что «Павловна играет большую роль в моей жизни, чем я думаю»60. «Начало творчества моего исходит от момента встречи Вари с Курымушкой, но самый процесс, то есть брак мой, осуществляется через Павловну (...) через Павловну явилась материализация духовного процесса, воплощение его (...) Павловна была мне, как безземельному мужику (2-му Адаму) — земля»61.
«Кащеева цепь» и есть главная пришвинская книга второй половины 20-х годов. Она была для писателя не столько возможностью вспомнить и воскресить ушедшее бытие, прозреть в мутных водах утекшего времени Китеж, что прячется в душе у каждого, как это сделал в «Жизни Арсеньева» Бунин, создававший свой роман в те же самые годы, сколько — изжить свою молодость, освободиться от нее; она писалась — чтобы не вспоминать: «Не люблю свою юность и всякое о ней напоминание»*62.
А все же роман свой, в отличие от Бунина, всегда называл автобиографическим.
Между двумя этими книгами столько же поразительно общего, сколь и разного, как и между судьбами их создателей. Бунин пишет от первого лица и едва ли не заклинает читателей и критиков не считать свою книгу автобиографической: «Недавно критик «Дней», в своей заметке о последней книге «Современных записок», где напечатана вторая часть (а вовсе не «отрывок») «Жизни Арсеньева», назвал «Жизнь Арсеньева» произведением автобиографическим.
Позвольте решительно протестовать против этого, как в Целях охраны добрых литературных нравов, так и в целях самоохраны. Это может подать нехороший пример и некоторым другим критикам, а я вовсе не хочу, чтобы мое произведение (которое, дурно ли оно или хорошо, претендует быть, по своему замыслу и тону, произведением все-таки художественным) не только искажалось, то есть называлось неподобающим ему именем автобиографии, но и связывалось с моей жизнью, то есть обсуждалось не как «Жизнь Арсеньева», а как жизнь Бунина.
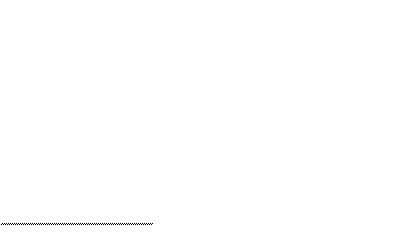 Схожий мотив есть и у Бунина в «Жизни Арсеньева»: «Воспоминания — нечто столь тяжкое, страшное, что существует даже особая молитва о спасении от них». Такой молитвой и были оба романа.
Схожий мотив есть и у Бунина в «Жизни Арсеньева»: «Воспоминания — нечто столь тяжкое, страшное, что существует даже особая молитва о спасении от них». Такой молитвой и были оба романа.
Может быть, в «Жизни Арсеньева» и впрямь есть много автобиографического. Но говорить об этом никак не дело критики художественной»63.
В крайнем случае он соглашался: «Можно при желании считать этот роман и автобиографией, так как для меня всякий искренний роман — автобиография. И в этом случае можно было бы сказать, что я всегда автобиографичен»*64.
В отличие от Бунина жизнетворец Пришвин выносил на суд читателей самые интимные стороны своей жизни, подчеркивая, что Алпатов — это он, более того, что Алпатов — это лучшая часть его существа.
«Друг мой! Есть незначительные фактические неточности в рассказе о переживаниях Алпатова сравнительно с тем, что переживал я сам в жизни. Но я, прочитав переживания Алпатова спустя тридцать лет после того, как я написал «Кащееву цепь», утверждаю несомненный для меня и удивительный факт: правда написанного гораздо фактичней, чем правда сама по себе — правда неодетая»65.
И в более ранней дневниковой записи в 1915 году он писал: «Я думаю, что когда говоришь от себя, то больше скрываешь себя настоящего от воображаемого, и потому я буду говорить от себя: я хочу...
Или так: Глава 1. Рождение моего героя.
Мой герой родился от меня настоящего (не-героя) в... я не могу сейчас вспомнить этот год, это было в год смерти моего отца в деревне Хрущево в небольшом имении. Аллея и проч. (см.голубые бобры)... и мне осталась мать моя, которая создавала мне будущее, а отец тип голубого бобра, и тут начинаются два совершенно разных человека, я настоящий, как я теперь есть, и другой, с голубым бобром. Это совершенно другой человек, и потому тогда будет лучше, если я окрещу его (1 нрзб) другим именем, пусть он будет называться С,
 * Любопытно, что А. Т. Твардовский, который сделал очень много для возвращения наследия Бунина на родину, в статье к девятитомному собранию сочинений назвал «Жизнь Арсеньева» книгой «насквозь автобиографической», а его оппонент К. Г. Паустовский писал в предисловии к изданию Бунина 1961 года: «Для автобиографии «Жизнь Арсеньева» была написана слишком свободно, смело и глубоко. Это не автобиография. Это — слиток из всех земных горестей, очарований, размышлений и радостей. Это — удивительный свод событий одной человеческой жизни, скитаний, стран, городов, морей, но среди этого многообразия земли на первом месте всегда наша Средняя Россия» (цит. по: Бунин И. А. Собр. соч.: В 4 т. Т. 3. С. 539—540).
* Любопытно, что А. Т. Твардовский, который сделал очень много для возвращения наследия Бунина на родину, в статье к девятитомному собранию сочинений назвал «Жизнь Арсеньева» книгой «насквозь автобиографической», а его оппонент К. Г. Паустовский писал в предисловии к изданию Бунина 1961 года: «Для автобиографии «Жизнь Арсеньева» была написана слишком свободно, смело и глубоко. Это не автобиография. Это — слиток из всех земных горестей, очарований, размышлений и радостей. Это — удивительный свод событий одной человеческой жизни, скитаний, стран, городов, морей, но среди этого многообразия земли на первом месте всегда наша Средняя Россия» (цит. по: Бунин И. А. Собр. соч.: В 4 т. Т. 3. С. 539—540).
А как метко сказал В. Ходасевич, рецензируя «Жизнь Арсеньева»: это — «вымышленная фотография», «автобиография вымышленного лица» (Литературное наследство. Т. 84. Кн. 1. С. 37).
а я единственный интимнейший свидетель его жизни (2 нрзб.), его тайны».
В дневниковых записях тридцатых годов встретится еще одно поразительное столкновение писателя с его альтер-эго: «Я был просто художник и в своих исканиях, совершенно искренних и поверхностных, внутри себя немного бессознательно актерствовал.
Алпатов был глубже меня, и мне кажется, что у него что-то было подлинное в исканиях, или, может быть, он глубже меня обманывался»*66.
Об этом романе на страницах книги говорилось уже очень много, мы вспоминали его при описании пришвинского детства, отрочества и юности, его революционных лет и первой любви, и чтобы было понятно, как могло восприниматься это произведение советским официозом, приведу цитату из статьи А. Ефремина, который уже не раз цитировался как один из самых вдумчивых, хотя и, безусловно, враждебно настроенных к писателю критиков: «Кащеева цепь — это старый мир. Однако роман исполнен в столь нежной акварели, что острые углы и твердые шипы дореволюционного прошлого теряют свою колючесть и окутываются дымкой старой уютности. Юноша Алпатов живет богатой, многоцветной внутренней жизнью. Ему хорошо. Где-то там в стороне, как эпизоды, мелькают безземелье, нищета, закабаление, но все это проходит мимо, остается в тени, отметаемое могучим поэтическим напряжением, неиссякаемо веющим из недр плодоносной природы. Оно смягчает и умиротворяет всех и вся: бары и мужики, гимназисты и полицейские приставы, русские переселенцы и немецкие рабочие одинаково жадно черпают из лона волнующего и успокаивающего источника»67.
Так нежно написать можно было, только очень Пришвина в глубине души любя, чувствуя и понимая, — одно плохо — звучало это в 1930 году как донос и могло стоить автору в лучшем случае отлучения от литературы, а в худшем — жизни и свободы: «Советский юноша или современная девушка читают «Кащееву цепь». Молодая восприимчивая психика читателя обвеяна ароматом лирических страниц романа. Читатель с волнением следит за ходом действия, и вот перед ним невольно встает недоуменный вопрос: предреволюционное
В комментариях к этой записи указано: «В рукописи вместо фамилии Алпатов первоначально стояла фамилия Ремизов, исправленная затем рукой Пришвина» (Пришвин М. М. Собр. соч.: В 8 т. Т. 8. С. 710
 прошлое было не так уж отталкивающе: что же побуждало людей на борьбу?»68
прошлое было не так уж отталкивающе: что же побуждало людей на борьбу?»68
В середине 20-х Пришвин мог позволить себе роскошь об этом думать и внутренней цензурой себя не стеснять. Итак, на разрыве героя с Инной он и закончил свой опус, идею которого немногим позднее определил как «упрямую книгу, строго личную и в то время эпическую: какой-то лирический эпос и попытка отстоять романтизм в марксизме»69, и вот тут перед писателем встала задача: чем закончить «Кащееву цепь»?
Если следовать принципу автобиографичности, Алпатова следовало женить на крестьянке, сделать писателем, отправить на Север, ввести в Религиозно-философское общество, но Пришвин оборвал «Кащееву цепь» на удивительной картине пробуждения весенней природы, куда ушел от цивилизации его герой, не вступив на скользкую литературную дорожку.
Он написал замечательную главу, где описывается тетеревиный ток и старый охотник Чурка с его любовным томлением по молодой вдовой снохе Паше (а сам Чурка «трех праведных жен замотал, а неправедных не пересчитать»), в дальнейшем именно на ней должен был жениться Алпатов, и любовь зайцев на лунной поляне, и сидящий в кустах, наблюдающий за этим праздником главный герой, и разбивающий Кащееву цепь зла весенний ледоход с плывущими по реке коровой, баней, Снегурочкой и Берендеем.
Концовка удалась на славу, только можно ли было ее таковой считать? Этот вопрос занимал Пришвина до конца дней, и в пору работы над романом он записал несколько важных и по обыкновению противоречивых мыслей, проливающих свет на идею финала: «Надо поставить задачу пола у Алпатова и концом развязать ее: на этом и построить роман»70.
«Алпатов уходит к берендеям от злобы, потому что ему не дана сила решать: ему остается жить-существовать»71.
«Конец «Кащеевой цепи»: найденная родина, это значит: верное отношение между именем своего назначения и именем своего происхождения»72.
И все же этот открытый финал Пришвина не удовлетворил. Перед самой смертью, потерпев неудачу с другими своими романами, писатель принялся дописывать «Кащееву цепь», но уже от первого лица и создал еще два звена, а также предисловия ко всем другим звеньям*, но тогда, в конце двадцатых, у него был иной замысел.
 * Вообще любопытно, как в пятидесятые годы исправлялись по доброй авторской воле книги двадцатых — начала тридцатых. Леонов создал новую редакцию «Вора». Пастернак — своей автобиографии.
* Вообще любопытно, как в пятидесятые годы исправлялись по доброй авторской воле книги двадцатых — начала тридцатых. Леонов создал новую редакцию «Вора». Пастернак — своей автобиографии.
И у Бунина, и у Пришвина оба протагониста стремятся к творчеству, видят в нем единственный выход и спасение для мыслящей личности, и «Жизнь Арсеньева», и «Кащееву цепь» _ это романы о рождении и становлении художника. Арсеньев с самого начала был заявлен как поэт и целые страницы романа посвящены его первым литературным шагам («Я, как сыщик, преследовал то одного, то другого прохожего, глядя на его спину, на его калоши, стараясь что-то понять, поймать в нем, войти в него... Писать! Вот о крышах, о калошах, о спинах надо писать, а вовсе не затем, чтобы «бороться с произволом и насилием, защищать угнетенных и обездоленных, давать яркие типы, рисовать широкие картины общественности, современности, ее настроений и течений!» (...) Что ж, думал я, может быть, просто начать повесть о самом себе? Но как? Вроде «Детства, отрочества»? Или еще проще? «Я родился там-то и тогда-то...» Но, Боже, как это сухо, ничтожно — и неверно! Я ведь чувствую совсем не то! Это стыдно, неловко сказать, но это так: я родился во вселенной, в бесконечности времени и пространства...»). Для Алпатова Пришвин стремился найти другое призвание и сам же признавал, что потерпел на этом пути творческое поражение. Именно этому поражению — случай уникальный в мировой литературе — Пришвин посвятил «Журавлиную родину» — странную и удивительную книгу — историю создания неудавшегося романа, которую заметил М. М. Бахтин: «Как правило, испытание слова сочетается с его пародированием, — но степень пародийности, а также и степень диалогической сопротивляемости пародируемого слова могут быть весьма различны (...) Как исключение возможно испытание литературного слова в романе, вовсе лишенное пародийности. Интереснейший пример такого испытания — «Журавлиная родина» М. Пришвина. Здесь самокритика литературного слова — роман о романе — перерастает в лишенный всякой пародийности философский роман о творчестве»73.
А вот как оценил свой труд сам Пришвин: «Задумал написать роман о творчестве, но предпочел самое творчество, и роман разбился»74.
Вместе с этим «Журавлиная родина» продолжала линию, начатую в «Охоте за счастьем», осмысление собственного творческого пути и сотворение определенной жизненной легенды. Но если в первом рассказе осторожный, только-только нащупывавший новую советскую почву, как нащупывал Пришвин кочки на болоте, автор сделал акцент на Положительном опыте своего творческого пути и опустил
свои похождения в стане засмысленных интеллигентов, то теперь Пришвин во многом обращался именно к этому литературному и житейскому опыту и героям тех лет, осторожно проводя мысли, которые более прямо высказывались в Дневнике.
Идея о робком хлыстовстве Александра Блока выражена так: «Есть случаи даже обожествления своего собственного образа, как часто простой народ обожествляет образ Божий, икону. Сильно подозреваю, что Христос в поэме Блока «Двенадцать», грациозный, легкий, разукрашенный розами, есть обожествленный сам Блок, иллюзорный вождь пролетариев»*75.
При этом случай с Блоком, по Пришвину, не единичен, а всего лишь наиболее ярок, и, порассуждав о творчестве вообще, о лесе, человеке, торфе и морене, Пришвин через двадцать страниц вернулся к теме самообожествления — и в отрывочности, дискретности его воспоминаний заключался своеобразный художественный прием этой книги — картины декадентской поры в ней даются дозировано, вкраплениями, как в шараде, как в Дневнике — там ведь тоже о Блоке Пришвин размышлял в перерыве между двумя ночными охотами, и воспоминания эти нужны ему лишь для того, чтобы скрасить ожидание перед выстрелом.
«Множество поэтов закатилось в богов и в таком смешном виде были изловлены. Тогда началась новая форма морально-эстетической болезни: богоискательство»76.
Но что же, по мнению Пришвина, уберегло его от этой эпидемии? Почему не стал он ни богоискателем, ни богостроителем? Тогда, в конце двадцатых, во времена Емельяна Ярославского, комсомольских шабашей и союзов воинствующих безбожников, Пришвин не побоялся написать следующее: «Какой-то наивный, внушенный мне с детства страх Божий (курсив Пришвина. — А. В.) не дал мне возможности проделать вполне серьезно опыты самообожествления и последующего богоискательства... но, конечно, все было так любопытно, что и я отдавал дань своему времени. Из этнографа я стал литератором с обязательством к словесной форме как таковой. Подражая богам, я тоже стал писать о себе...»77
 * Но справедливости ради надо сказать, что и в автобиографическом Алпатове из «Мирской чаши» Пришвин хотел показать «идеальную личность, пытающуюся идти по пути Христа и распятого с лишением имени» (Пришвин М. М. Дневник. Т. 3. С. 265).
* Но справедливости ради надо сказать, что и в автобиографическом Алпатове из «Мирской чаши» Пришвин хотел показать «идеальную личность, пытающуюся идти по пути Христа и распятого с лишением имени» (Пришвин М. М. Дневник. Т. 3. С. 265).
И все же, несмотря на разрыв с декадентством, свой тогдашний литературный опыт Пришвин оценил теперь в романе как положительный: «Я был свидетелем трагической цветущей эпохи словесного творчества, (...) я должен за великое свое счастие принять, что не по книжным материалам, а по лично пережитому имею возможность провести своего героя между встречными потоками декадентского эстетизма и революционного аскетизма к открытому морю органического творчества»78, а в Дневнике эта благодарная мысль находит и чисто профессиональное подтверждение: «Можно разными глазами смотреть на эту чрезвычайно цветистую эпоху нашего литературного искусства, но никто не будет спорить со мной, что эта эпоха была школой литературы, и требования к нашему ремеслу чрезвычайно повысились в это время»79.
«Журавлиная родина» не принесла Пришвину большого успеха.
«Сдал «Журавлиную родину», и схватила тоска: очень уж трудно работать без отклика, а об откликах умных и думать нечего, лишь бы только хулы не нажить»80.
Однако отклики были. Когда Пришвин в большой писательской компании прочел свое новое творение, один из собравшихся (Е. Замятин) заметил, что Пришвин воспользовался здесь приемом, который так и называется «обнажение приема». Идея последнего, как известно, была предложена Шкловским, одним из адептов русской формальной школы, в связи с чем дальше последовал замечательный диалог двух мастеров художественного слова: «— Честное слово, я не читал Шкловского и писал без приема.
— Честного слова нет у художника, — ответил (1 нрзб) литератор, — вернее, оно есть, но тоже как прием»81.
Не менее замечательна была реакция создателя на это, в сущности, весьма проницательное возражение: «Я был уязвлен до конца (...) И вот оказалось, что я сам со своей бородой, лысиной, слабыми руками, стальными ногами и каким- то зеркальцем под ложечкой, где непрерывно сменяются острая боль и яркая радость — я — сам без остатка не больше не меньше существую как прием. Я был подавлен и не мог Найтись в защите себя: ведь я не имел никакого понятия о Формальном методе!»82
Исключительный по точности и выразительности автопортрет!
Глава XVII
ПОИСКАХ ИДЕАЛЬНОГО БОЛЬШЕВИКА
«Журавлиная родина» писалась уже не в Переславле-Залесском, а в Сергиеве. По всей видимости, Пришвин жил бы себе на Ботике, но год спустя после начала сухопутно-корабельной жизни у него испортились отношения с заведующим историческим музеем Михаилом Ивановичем Смирновым, который и пригласил Пришвина на станцию. Вместе они путешествовали по рекам края, однако со временем оказалось, что ужиться двум краеведам в одной берлоге не удастся.
Из усадьбы пришлось съезжать. Можно было бы устроиться где-нибудь неподалеку, но во второй половине двадцатых в России ухудшилась, как нынче принято говорить, криминогенная обстановка, развелось много хулиганства — того самого, о котором пришвинский герой из «Голубого знамени» в 1918 году радостно восклицал: «Хулиганчики, хулиганчики, сколько в вас божественного!» Теперь его создатель объяснял опасное явление нерешительными действиями правительства и еще раньше заключил, что «жить в стороне становится рискованно, надо переезжать в Сергиев»1.
Расставаться с Ботиком было жаль, но особенно жаль — с озером («Мне было во сне, будто я разлучаюсь с кем-то близким таким, что вместе с душой близкого отдирается от меня шматами моя собственная кожа и мясо. Просыпаясь, я догадался, что это близкое мне было наше озеро (...) Встреча с озером была счастьем, через это я вернулся к себе и понял, что озеро мне было как икона молящемуся»2), но весной 1926 года Пришвин начал подыскивать дом в Сергиеве. Эти места были ему отчасти знакомы, они располагались недалеко от Талдома-Ленинска, отсюда несложно было добираться до любимых дубненских болот с их богатыми охотничьими угодьями, весна прошла в сомнениях — не то заниматься домом, не то писать роман. Последний вопрос был вынесен на семейный совет, и, к удовольствию писателя и кормильца трех находившихся на его иждивении взрослых душ, члены пришвинского клана во главе с Берендеевной дружно проголосовали за роман.
Однако сам большой решил в тот раз колебание в пользу семьи.
Покупка дома в Сергиеве напоминала ему историю десятилетней давности, когда был обретен и утрачен елецкий дом («Я в одиночку с великим трудом заработал себе литературным трудом деньги, выстроил себе дом, чтобы спокойно
работать и растить семью. Пришли коммунисты, выгнали меня из дома, и потом его сожгли мужики»3), и одновременно заставила Пришвина проследить эволюцию его отношений с коммунистической властью за десять прошедших после октябрьского переворота лет: «Были коммунисты, — приставляли мне ко лбу револьвер и грозили (...)
Были коммунисты, когда я заходил в их редакции с желанием работать, мне отказывали (...)
Были коммунисты, я приходил в редакцию к ним и предлагал свои рукописи, у меня их покупали, давали деньги и не печатали.
И теперь коммунисты (...) сами зовут меня. Редактор, встречая, встает (...)
—Мне нужно купить дом.
—Очень хорошо, мы вам денег дадим»4.
Так коммунисты, некогда уничтожившие его дом, теперь давали денег на новый. Да и вообще «коммунисты, это блудные дети, усталые, возвращаются к отцу и на свою родину»5, — замечательная перекличка с идеей дома.
«Это ли не победа?!» — так и хочется воскликнуть словами, которые произнес Пришвин после того, как его «опекун» Василий Васильевич Розанов публично признал свою вину за изгнание из школы непокорного гимназиста. Да только победа ли?
Блудные коммунисты зря ничего не давали, за все требовали платы, хотя справедливости ради и следует заметить, что в 20-е, в отличие от 30-х, Пришвин снабжался по минимуму, и материальное положение его ни в какое сравнение не шло с жизнью красного графа Алексея Николаевича Толстого, в Детское (бывшее Царское) Село к которому однажды заехал в гости Пришвин, или Пильняка, который, наоборот, сам приезжал в бывший Сергиев — на автомобиле, с французами, и был поражен бедностью пришвинского жилища.
У Пришвина денег было в ту пору маловато («Сижу в Сергиеве в своем доме один с обрезанными крыльями... финансы!»6), он жил, обходясь малым, и про «Кащееву цепь» не зря ее создатель воскликнул, что она «писалась под таким Давлением нужды, что не может быть цельной, ровной вещью»7. Быть может, поэтому претензии к коммунистам у Пришвина в ту пору были несколько неожиданные.
С середины двадцатых годов началось бросающееся в аза своеобразное обмирщение, обмещанивание революции, нарождался новый класс советской номенклатуры, против которой так яростно восставал Маяковский (тема
 |
«Пришвин и Маяковский», при всей парадоксальности крайне любопытна*), и это образование «внутренней партии», как назвал ее позднее в своем «1984» Дж. Оруэлл, уязвляло переводчика «Женщины и социализма».
«В политике я постоянно ошибаюсь, потому что строю свои суждения по материалам, доставляемым мне больше сердцем, мой разум осмеливается выступать лишь в согласии с чувством, поэтому мои суждения в политике всегда обывательские и неверные. Так, я очень уверился, что события на К. В. Д. на этот раз кончатся войной. Мне представлялось, что революционное правительство еще способно раскинуть и начать войну, чтобы зажечь мировой пожар! Я это думал, потому что в корне своем сам большевик (курсив мой. — А. В.), а в жизни уже давно этого нет: я судил сам по себе, не считаясь с тем, что революция давно пережита и "пятилетки" (недопис.)8.
Эта мысль для Пришвина не случайна и не единична, так же как и не случайно для него явление большевизма в российской истории: «Когда начинаешь раздумывать о судьбах России, то всегда неизбежно приходишь к мысли о большевиках. Так и в истории нашей большевизм неизбежность, необходимость, тут "все"»9.
И даже Владимир Ленин, о котором написал Пришвин столько горьких слов в период революции и Гражданской войны, предстал в одном из снов писателя в неожиданно благостном, сказочном виде: «Вот мой сон: будто бы Ленин попал в рай, удивительно: Ленин в раю! Сел будто бы Ленин на камень, обложился материалами и стал в раю работать с утра до ночи над труднейшим вопросом, как бы этот рай сделать доступным и грешникам ада, осужденным на вечные муки»10.
Традиционный для «человека бывшего» взгляд на большевиков (так, например, «N. (художник Г. Э. Бострем, загорский друг Пришвина. — А. В.) считал их просто случайностью и потому временным затмением невежественного народа. Никогда он не мог про себя ставить народных комиссаров в уровень с императорскими министрами. Короче
 * Приведу несколько строк из поздних дневниковых записей, свидетельствующих о ее актуальности: «Читаю взасос Маяковского. Считаю, что поэзия — не главное в его поэмах. Главное то, о чем я пишу каждый день, чтобы день пришпилить к бумаге. Потомки, может быть, и будут ругаться, но дело сделано — день пришпилен. И это пришитое есть правда, которой, оказалось, служил Маяковский» {Пришвин М. М. Собр. соч.: В 6 т. Т. 5. С. 414). «Настоящее «слово правды» требует решения: умереть в горе, как Блок, или броситься в чан, как Маяковский. Где же ты, Михаил?» (Пришвин М. М. Собр. соч.: В 8 т. Т. 8. С. 627)
* Приведу несколько строк из поздних дневниковых записей, свидетельствующих о ее актуальности: «Читаю взасос Маяковского. Считаю, что поэзия — не главное в его поэмах. Главное то, о чем я пишу каждый день, чтобы день пришпилить к бумаге. Потомки, может быть, и будут ругаться, но дело сделано — день пришпилен. И это пришитое есть правда, которой, оказалось, служил Маяковский» {Пришвин М. М. Собр. соч.: В 6 т. Т. 5. С. 414). «Настоящее «слово правды» требует решения: умереть в горе, как Блок, или броситься в чан, как Маяковский. Где же ты, Михаил?» (Пришвин М. М. Собр. соч.: В 8 т. Т. 8. С. 627)
сказать, события не были для него универсальными, а мелкими, временными, вроде китайских бунтов и замирений»") был для Пришвина неприемлем.
Дата публикования: 2014-11-04; Прочитано: 376 | Нарушение авторского права страницы | Мы поможем в написании вашей работы!
