 |
Главная Случайная страница Контакты | Мы поможем в написании вашей работы! | |
Министерство образования и науки Украины 1 страница
|
|
Символика православного храма.
Святость храма – это не древность его…
Глубокое основание святости храма Божия
есть присутствие Божие в храме, таинственное и
непостижимое. Господь во храме святом Своём.
(Пс. 10, 4)
Со времени Крещения Руси строительство храмов на нашей земле приобретает необычайный размах. Древнерусскому зодчеству свойственны черты, сходные со всей христианской архитектурой мира. Но есть в нём и достаточно яркие особенности, отличающие русские храмы от храмов, построенных на Православном Востоке и, в первую очередь, в Византии. Эти особенности являются выражением самобытности русского духовного творчества.
Заимствовав вместе с религией культуру, в частности, строительство христианских храмов, русский народ переработал византийские традиции в духе своих русских традиций.
На Руси получил распространение крестово-купольный тип храма, имевший следующую схему построения. Внутреннее пространство здания расчленялось четырьмя массивными столбами, образуя в плане крест. На этих столбах, соединённых попарно арками, возводился световой «барабан» (или «шея»), завершавшийся полусферическим куполом. Восточная часть здания имела выступы для алтаря – апсиды. Внутреннее пространство делилось на нефы (межрядные пространства). В западной части располагался балкон – хоры.
Чем же отличаются русские православные храмы от византийских и какова их символика?
Наиболее древняя из известных черт русской христианской архитектуры – многоглавие, или многокупольность, в то время, как византийской традиции присуще завершение храма пологим широким куполом. Уже первые храмы Киевской Руси были многоглавыми: Успенская Десятинная церковь (989 – 996) имела 25 глав, собор св. Софии в Киеве – 13, Новгородская София – 5. Небольшие русские купола поставлены на «шее»: «Верх церковный есть глава Господня, главу бо церковную держит Христос, шею – Апостолы, пазухи – Евангелисты…». И форма главы претерпевает изменения – перерастает в «маковку» или «луковицу». Такая «маковка» ставилась даже там, где купола не было, на глухой столпообразной «шейке».
Дело в том, что в таком завершении русского православного храма заключается глубокий смысл.
«Наша отечественная «луковица» воплощает в себе идею глубокого молитвенного горения к небесам, через которое наш земной мир становится причастным потустороннему богатству. Это завершение русского храма – как бы огненный язык, увенчанный крестом и к кресту заостряющийся».[3]
Если пологий византийский купол подобен краю солнца, лишь показавшемуся над горизонтом, то русский купол с заострённым к кресту «языком» подобен языку пламени над лампадой. Иногда купола называют «шлемовидными», указывая на сходство с доспехами русского воина.
Понимание русской храмовой главы и как образа Спасителя и как пламени – многозначно. Действительно, если церковная глава есть Господь, то в форме и в золоте главы мы видим прежде всего Его просвещающий огонь. «Воспламенение» куполов русских церквей – символ воспламенения России из века в век возрастающим числом подвижников, просветителей, преподобных, в земле Российской просиявших.
Сущность многоглавия раскрывает и числовая символика. Число глав часто соотнесено с числом престолов данного храма, но символика многоглавия этим не ограничивается. Так, 5-главие символизирует Спасителя и четырёх евангелистов, 7-главие – семь даров Святого Духа, 9-главие – 9 чинов Сил Небесных и 9 чинов святых угодников, 13-главие указывает на Господа нашего Иисуса Христа и 12 Его Апостолов. Одним из самых значительных символов является число 25 – престол Пресвятой Троицы с предстоящими 12-ю пророками и 12-ю Апостолами Нового Завета.
В период монголо-татарского нашествия многокупольность исчезает и храмы становятся строгими, суровыми и одноглавыми. Очертания таких храмов тоже своеобразны. Они напоминают воинов в шлемах и латах. Крыши таких храмов даже называют «плечами». Суровый воинский вид усугубляют окна в виде бойниц. Русский город с такими храмами напоминает войско, выступившее на защиту родной земли. Такое впечатление создаётся, когда смотришь на древний Кремль Пскова, Смоленска.
В деревнях и сёлах Древней Руси стояли бесчисленные деревянные церкви и часовни. Русские зодчие, строя из дерева, не стремились подражать византийским образцам, но, решая силуэт будущего храма или выбирая для него декоративные детали, широко и свободно использовали традиции народного зодчества. Со временем эти декоративные особенности деревянных храмов (например, чешуйчатые крыши, «кокошники») стали использоваться и в каменном строительстве.
Ещё одна особенность русского зодчества – использование восьмигранного шатра, увенчанного главой с крестом. Смысл его раскрывается в числовой символике. В основе формы восьмигранного шатра лежит число 9, образующееся восьмью углами (или гранями) и геометрическим центром – вершиной шатра. Это образ Пречистыя Богородицы – «Матери Света», которому сопутствует символ чистоты, света, вечного цветения - изображаемая на её покрове восьмиконечная звезда в виде расцветшего креста с выделенным центром. И земная жизнь Пресвятой Богородицы празднуется восьмью праздниками и девятым праздником – Её Собором. Этот символ является духовным откровением русского зодчества.
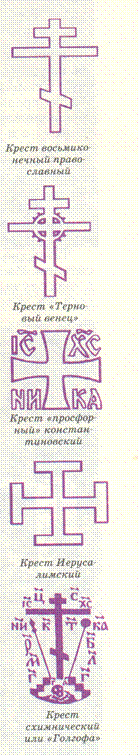 Шатёр сохранился в русской архитектуре колоколен как символ Благовеста, Благовещения Пресвятой Богородицы. В русском зодчестве сложился тип храма, выстроенного по оси запад – восток из объёмов колокольни, трапезной, собственно церкви и алтарной части, причём вход делался сквозь колокольню, внизу которой изображались архангелы Михаил и Гавриил. Этим подчёркивается одно из символических значений колокольного Благовеста как образа Благовещения Пресвятой Богородицы, а так же и то, что вход в храм мы получаем через «Благую Вратарницу, двери райские верным отверзающую».
Шатёр сохранился в русской архитектуре колоколен как символ Благовеста, Благовещения Пресвятой Богородицы. В русском зодчестве сложился тип храма, выстроенного по оси запад – восток из объёмов колокольни, трапезной, собственно церкви и алтарной части, причём вход делался сквозь колокольню, внизу которой изображались архангелы Михаил и Гавриил. Этим подчёркивается одно из символических значений колокольного Благовеста как образа Благовещения Пресвятой Богородицы, а так же и то, что вход в храм мы получаем через «Благую Вратарницу, двери райские верным отверзающую».
В русской истории Богородица постоянно являлась защитницей, опорой, утешением и победой. Множеством чудес благословила Она Русскую землю. Недаром существовало на Руси духовное именование своей страны как «Дома Богородицы». Особым языком форм говорит с нами архитектура. И русский шатёр – одно из самых значительных «безмолвных слов» о Пресвятой Деве. Сама форма шатра вызывает представление о стоящей во весь рост Деве.
Общепризнано, что ступенчатая пирамидальность русских храмов продолжает традицию древнеславянского зодчества, с его столпообразными срубами, клетями,и златоверхими вышками. И традиция эта уходит своими корнями в глубь веков.
Важнейшая особенность православного храма состоит в том, что он никогда не создавался по побуждениям внешним, чисто эстетическим. Высокое назначение храма, его духовность, выраженные в богослужении, святых таинствах, обрядах, в священных предметах, - вот что определяло его внешний вид и содержание.
Крест — знамение нашего спасения. За долгие тысячелетия этот главный христианский символ не раз менялся. Вот основные формы Креста.
Крест Господень — четырехконечный, равносторонний; согласно учению, к нему привязаны все концы вселенной, четыре стороны света.
 Удлиненная нижняя часть такого же Креста знаменует долготерпение Божественной любви, отдавшей Сына Божия на распятие за грехи мира.
Удлиненная нижняя часть такого же Креста знаменует долготерпение Божественной любви, отдавшей Сына Божия на распятие за грехи мира.
Крест четырехконечный с полукружием внизу, с концами полумесяца, обращенными вверх, с древних времен ставят на куполах храмов. Означает этот символ — якорь спасения, якорь упокоения нашего в Небесном Царстве, такая надежда соответствует понятию о храме, как о корабле, плывущем в Царство Божие.
А вот Крест восьмиконечный. У него средняя перекладина длиннее других, над ней одна прямая покороче, под ней тоже короткая перекладина, только один конец которой поднят и обращён на север, опущенный — обращён на юг. Согласно Церковному Преданию, благоразумный разбойник, распятый одесную (по правую руку) Спасителя, вошёл вместе с Ним в рай, а разбойник, распятый ошуюю (с левой стороны), отправился в ад. Поэтому, когда мы смотрим на восьмиконечный Крест с распятым Господом, видны правый конец нижней перекладины устремлённый вверх, а нижний — опущенный вниз. Форма этого Креста более соответствует Кресту, на котором распяли Спасителя. Поэтому такой Крест уже не только знамение, но и образ Креста Христова. Верхняя перекладина — табличка с надписью «Иисус Назорей Царь Иудейский», прибитая по приказу Пилата над главой Распятого Спасителя. Нижняя — подставка для ног, призванная служить для увеличения мучений Распятого, так как обманчивое ощущение некоторой опоры под ногами побуждает казнимого невольно пытаться облегчить свою тяжесть, опираясь на неё, чем только продлевается жгучее мучение.
Восемь концов Креста — восемь основных периодов в истории человечества, где восьмой означает жизнь будущего века. Один из концов такого Креста указывает в небо — путь в Небесное Царство открыт Христом через Его Искупительный Подвиг.
Когда на восьмиконечном Кресте изображён Распятый, Крест в целом выражает полный образ распятого Спасителя, содержит в себе всю полноту силы, заключённой в крестном страдании Господа. Это великая и страшная святыня.[4]
«Матерь городов русских».
Вторым Царьградом называли Киев иностранные путешественники.
Киевский митрополит Иларион в своём знаменитом Слове о законе и благодати» так обращался к князю Владимиру: «Встань, благородный муж, из своего гроба!.. Взгляни на город, величеством сияющий, на церкви цветущие, на христианство растущее, взгляни на город, святыми иконами освящаемый, блистающий, овеваемый благоуханным тимьяном, хвалами и пением оглашаемый».
Киев был городом исключительно развитой по тому времени умственной и художественной культуры. При Софийском соборе была основана библиотека, где хранились и переписывались рукописи. В Киеве зародилось летописное дело, которому на Руси было суждено такое блестящее будущее.
Когда Киев ещё при Олеге был объявлен «матерью городов русских», Русь уже была сильной и сознающей свою силу державой. Гордость за её прошлое, опасение за будущее и призыв к целостности Русского государства звучат с исключительной мощью в великом летописном памятнике нашего народа «Повести временных лет». Ведь недаром сказано, что то был светильник, зажжённый в честь Русской земли, дабы осветить её исторический путь.
То же можно сказать и про Софию Киевскую, архитектура и живопись которой выражают во всей полноте силу, устремлённость и духовный подъём Киевской державы.
В 17 – 18 веках собор св. Софии был настолько видоизменён всевозможными переделками и пристройками (в стиле барокко), что сейчас трудно точно представить себе его первоначальный облик. И всё же ясно, что своим многоглавием, открытыми галереями, ступенчатым нарастанием, всем своим плавным и в то же время трепетным ритмом киевский храм вносил коррективы в строгую монолитность, категоричность византийского зодчества.
Киевская София не возносилась победно над землёй, а, можно сказать, непринуждённо выстраивалась по земле: она была не только величественной, но и живописной, гармонично разросшейся и вширь, и в длину, и ввысь. Могучая динамичность сочеталась в ней с декоративностью.
Храм не был побелён, как ныне. Кирпич, из которого он был выложен, чередовался с розовой цемянкой, что придавало его стенам радующую глаз нарядность. Вследствие всего этого храм общим обликом, внушительным и торжественным, но не замкнутым в своей массе, меньше походил на твердыню, чем константинопольская София, и не производил впечатления неразрывного целого.
Так самим своим содержанием традиции древнерусского деревянного зодчества, выражавшие художественные устремления русской народной души, взрывали жёсткий византийский канон.
Из соседнего, столь же пышного и величественного княжеского терема можно было попасть прямо на хоры этого храма, утверждавшего в сознании закономерность и крепость социальной иерархии, стройно отображавшей иерархию небесных сил. Каким контрастом с окрестными полуземлянками сиял этот храм, и какое подлинно сказочное видение открывалось их обитателям под его сводами!
Двенадцать мощных крестообразных столбов расчленяют огромное внутреннее пространство Софии киевской. Как и снаружи, динамичность чередования всё новых живописных перспектив определила замысел её интерьера.
Под главным куполом, в залитом светом пространстве, произносились проповеди и совершались торжественные государственные церемонии, а в самом алтаре собиралось высшее духовенство. Наверху, на хорах, появлялись земные владыки – князь и его приближённые. Внизу же, там, где свет переходил в полумрак, толпился народ.
Этот народ видел те же, что и мы сегодня, но в полном блеске, без каких-либо разрушений сверкающие золотом мозаики с сине-голубыми, сиреневыми, зелёными и пурпурными переливами, мозаики, как бы расплывающиеся по стенам, словно маревом всё обволакивающие своим то затухающим, то вспыхивающим с новой силой сиянием.
Шедевр «мерцающей живописи»!
Над головой молящихся в главном куполе – Христос Вседержитель – Пантократор, в простенках – вереницы святых, словно в воздухе, а в центральной абсиде – Богоматерь с воздетыми к небу руками – Оранта.
Огромная Оранта несколько тяжеловесна. Но, под лучами света, падающими на её золотой фон, сверкает и пламенеет каждый кубик смальты, она производит неизгладимое впечатление, торжественно выступая над нами своими широко раскрытыми глазами, вся обрамлённая жарким сиянием.
Опускаясь перед ней на колени, русский человек узнавал в её образе родную ему великую языческую Берегиню с руками, поднятыми к солнцу. Но, преображённая новым дивным искусством, она уже представлялась ему не только «матерью всего сущего», но и заступницей, всей своей мощью ограждающей его страну от бесчисленных врагов. Не даром называли её «Нерушимая стена» и верили: пока стоит она, будет стоять и Киев.
Русского человека привлекали твёрдость духа, уверенная сила, которыми дышали величавые образы отцов церкви в Святительском чине как пример всегдашней готовности постоять за правое дело.
Кроме «мерцающей живописи» храм был украшен фресками, которые в 19 веке были варварски записаны масляными красками. Эта «реставрация» исказила ряд фресок. Их систематическая расчистка началась только в 30-е годы ХХ века. Многое оказалось безвозвратно утрачено.
В тематику фресок входят и евангельские сцены, и игры на константинопольском гипподроме (правда, изображены они на лестничных башнях, ведущих на хоры).
Портрет Ярослава мудрого в росписях не сохранился, а его четыре дочери, стройно выступающие в ряд со свечами в руках, видны хорошо.
Участие в этой фресковой росписи русских мастеров несомненно. Об этом свидетельствуют некоторые чуждые Византии жизнерадостные, жизнеутверждающие мотивы в евангельских сценах, румяные, большеглазые женские лица, крепкие, приземистые фигуры, а в сценах гипподрома - звери наших лесов и чисто русские приёмы охоты.
Народу, стоящему на мозаичном полу, преподносилось действо, вероятно, не менее великолепное, чем в константинопольской Софии. Раздавались торжественные возгласы священнослужителей, слышалось торжественное церковное пение, сверкали золотом и драгоценными камнями храмовая утварь и роскошные облачения, дымились благовониями кадила, как пожар, горели несчётные свечи, озаряя иконописные лики подвижников веры и жаром своим воспламеняя искрящуюся отовсюду мозаику.
Архитектура Владимиро-Суздальского княжества.
Раздробленная Русь… Ослабленная, ограбленная, истекающая кровью в братоубийственных распрях и, казалось, бессильная постоять за себя. В народном богатырском эпосе воспевались защита родной земли, воинская доблесть и верность родине. Наконец, складывалось и единство русской культуры, которое выковывалось в древнерусских городах, в деятельности ремесленников, обогащавших свой опыт знакомством с работой их собратьев в смежных княжествах, в развитии торговых связей, которые, утеряв международную широту прошлого, обращались во внутренние области Руси.
Каковы же общие черты русского искусства 12 века?
Настали другие времена. Богатырь идёт на богатыря. Но та неподвижная сила, что дышит в храмовой твердыне, превозмогает раздоры князей.
Одноглавые, четырёхстолпные или шестистолпные храмы, кубом вросшие в землю, возникают один за другим в стольных княжеских городах. Их объёмы не столь велики, как в предыдущем веке, причём каждый храм образует плотный массив без лестничной башни, без галерей. Исчезла декоративная «полосатая» кладка. Внушительны, непроницаемы гладь и толщина стен. Шлемообразный купол виден издали. Храм – как вобравшая в себя все силы твердыня, как богатырь, что ни на шаг не отступит на тяжёлом своём коне.
От храма к храму, от крепости к крепости – таков всюду путь через леса и просторы Русской земли. И каждая храмовая твердыня, перекликаясь с соседней, пусть подчас и далёкой, вещает, вопреки крови, пролитой в братоубийственной войне, о единстве этой земли.
Тенденция к массивности, замкнутости церковного здания появилась вне Киева уже в 11 веке. В 12 веке она ясно обозначилась в самом Киеве, в соборе Печерского монастыря.
Первенство политическое и культурное среди обособившихся земель, несомненно, досталось княжеству Владимиро-Суздальскому. Именно там сложилась великорусская народность. Совсем в других природных условиях, чем на юге страны, жили там наши предки. Эти условия сказались на характере русского человека.
«Главная масса русского народа, - указывал Ключевский, - отступив перед непосильными внешними опасностями с днепровского юго-запада к Оке и Верхней Волге, там собрала свои разбитые силы, окрепла в лесах центральной России, спасла свою народность…».
Окрепла и спаслась как нация благодаря замечательной сметливости, выносливости, целеустремлённому усилию и мужеству.
В краю лесов, естественно, расцвели деревянное зодчество и деревянная скульптура. От них ничего не осталось, но искусство «древоделей» ожило в белокаменном строительстве и в белокаменной резьбе Владимиро-Суздальской Руси.
Владимир был основан князем Владимиром Мономахом. При сыне его Юрии Долгоруком были построены церковь Бориса и Глеба в селе Кидекше, в четырёх километрах от Суздаля, и собор Спасо-Преображения в Переславле-Залесском. Одноглавые четырёхстолпные крестово-купольные храмы с тремя массивными апсидами и фасадами. Храмы-богатыри, столь типичные для русского зодчества периода раздробленности. Но в самой своей грузности, приземистости они выделяются чёткостью архитектурного замысла и могучей в своей простоте красотой. Эти храмы выстроены в суровое время, поэтому строг и прост их интерьер. При Юрии Долгоруком церковь в Кидекше даже не была расписана, и богослужение велось в ней среди голых стен. Это первая церковь, сложенная из белого камня (местного известняка), блоки которого идеально подогнаны друг к другу. От неё-то и пошло ослепительное белокаменное зодчество, что создало нынешнюю мировую славу Владимиру-на-Клязме.
В город этот перенёс свою столицу сын Юрия Долгорукого князь Андрей, позванный народом Боголюбским. Это был крупный государственный деятель, отважный полководец и изворотливый дипломат. Историческая заслуга его заключается в том, что он сумел мечом и хитроумной политикой приостановить политический распад Руси. А город Владимир стал при нём крупнейшим очагом русской культуры. По словам летописца, Андрей «сильно устроил» Владимир, привлёк в него «купцов хитрых, ремесленников и рукодельников всяких».
Перед памятниками Владимира и Суздаля русский человек той поры испытывал, наверное, как и мы, волнение, просветлявшее душу. Какая ясность и стройность, и какая гармония с окружающим пейзажем! Искусство как увенчание природы!..
Как твердыня, высятся Золотые ворота Владимира (1164), одновременно служившие городу и узлом обороны, и торжественным въездом. Их мощный белокаменный куб, прорезанный огромной аркой и высоко увенчанный златоглавой церковью, замечательное сооружение крепостной архитектуры. Вот уж поистине чисто русское решение: когда воины сражаются за родной город, охраняя ворота, другие в это время молятся за победу.
Успенский собор (1158 – 1161) был воздвигнут в центре Владимира на высоком берегу реки Клязьмы так, чтобы, видимый отовсюду, он гордо царил над городом и округой. Величественный, всё вокруг превосходящий и себе подчиняющий, как и держава князя Андрея.
В этом соборе, на постройку и украшение которого князь Андрей выделил десятую долю своих доходов, находилась величайшая русская святыня – икона Владимирской Богоматери. Внутреннее убранство храма ослепительно сверкало золотом, серебром и драгоценными каменьями, что вызывало сравнение с библейским храмом царя Соломона. Суровая простота долгоруковских храмов отошла в прошлое. А через два с половиной века после постройки Успенского собора великий Андрей Рублёв украсил его фресками, которые являют собой сияющую вершину древнерусской монументальной живописи.
При Всеволоде, брате Андрея, прозванном Большое Гнездо, зодчие возвели вокруг одноглавого шестистолпного храма новые стены, увенчали их четырьмя главами и расчленили фасады на пять частей – прясел. Ещё более величественным, со своим пирамидально нарастающим пятиглавием, в своей широко, но слитно и чётко разросшейся белокаменности, стал этот храм, обретя подлинно классическую для русского зодчества могучую стать.
При Всеволоде же Большое Гнездо был построен Дмитриевский собор (1194 – 1197). Это одноглавый четырёхстолпный крестово-купольный храм. Не смотря на свою простоту, он производит неизгладимое впечатление благодаря, в первую очередь, своему декоративному убранству. Мы глядим на его высокие стены и не можем наглядеться. Как чудесная сказка, широко развёртывается перед нами белокаменная резьба. Всё, что на Руси было создано замечательного в гравировке, эмали, рукописном орнаменте и особенно в деревянной резьбе, нашло своё отражение в изобразительных и декоративных мотивах этого шедевра владимирских каменосечцев (от русского – высекать по камню). Народное начало, питавшее древнерусское искусство, проявилось тут особенно ярко в плоском рельефе, сливающемся с архитектурой, дополняющем и украшающем её. Любовь к природе, прославление её красоты – вот что составляет истинное содержание этой замечательной декоративной скульптуры.
Убранство Дмитриевского собора занимает больше половины стены, вьётся по колоннам арочного пояса, поднимается, всё заполняя, до закомар – полукруглых завершений фасадов и затем всё так же узорчато восходит по барабану. И так это всё стройно и изящно, что кажется, будто это драгоценный ларец, искусно сработанный ювелиром. Каменный узор – излюбленное древнерусское узорочье.
Несложны сюжеты рельефа. Это Давид – псалмопевец, а вот и сам Всеволод Большое Гнездо на троне, с коленопреклонёнными сыновьями. А рядом звериный мир в своём русском обличье, восходящем к древнеславянским мифам.
Это – русское народное мироощущение, запечатлённое в белом камне, русская сказка.
В этом соборе русскими зодчими и ваятелями была достигнута удивительная согласованность скульптурного убранства с архитектурой. Декоративность не только не затемняет архитектурного замысла, но ещё ярче, убедительнее выявляет замысел, так что весь собор – шедевр гармонии и меры.
Традиции и приёмы, выработанные мастерами владимирской школы, продолжали развиваться и в Суздале, Юрьеве-Польском, Нижнем Новгороде. Георгиевский собор Юрьева монастыря (1230 – 1234) был покрыт декоративной резьбой сверху донизу. К сожалению, собор не сохранился в первоначальном виде. Он был перестроен в 1471 году, при этом блоки бело камня частично были утрачены и перепутаны. Георгиевский собор является последним памятником владимиро-суздальского зодчества. Его называют «лебединой песнью» русской архитектуры домонгольского времени.
Поэма из камня.
Мы пришли с тобой и замерли
и забыли все слова
перед белым чудом на Нерли,
перед храмом Покрова,
что не камен, а из света весь,
из любовей и молитв…
Борис Чичибабин.
«Поэты сравнивают храм Покрова на Нерли с парусом, уносящимся вдаль по безбрежным волнам времени. Иногда прославленную белокаменную церковь под Владимиром уподобляют лучистой безмолвной звезде, уплывающей в бесконечность мироздания».[5]
Храм возвышается среди волн реки Нерли, впадающей в Клязьму, как белоснежный лебедь…
«Текут речные потоки. Дни и ночи, месяцы и годы, столетия уносит река жизни. Сменяются поколения, а лебедь-храм плывёт и плывёт среди неоглядных просторов. Любуясь Покровом на Нерли, думаешь об истории храма, о веках, что пронеслись над его стенами».[6]
Этот небольшой одноглавый храм посвящается Покрову Богородицы – одному из самых любимых православных праздников на Руси.
Праздник этот отмечается 1/14 октября. Установлен он в память явления Пресвятой Богородицы во Влахернском храме в Константинополе в середине Х века в период царствования византийского императора Льва Шестого Мудрого. На Руси праздник был установлен при князе Андрее Боголюбском около 1164 года. В основе праздника лежит предание о явлении Богородицы в церкви во Влахернах – императорской резиденции в Константинополе, где хранилась риза Богоматери, её головной покров и часть пояса. В это время шла война с сарацинами, и жители Константинополя обратились с молитвой к Богородице с просьбой о защите города. Во время всенощного бдения в храме присутствовал св. Андрей Юродивый, о котором говорили, что он славянин, и его ученик Епифаний. Они увидели явление Божией Матери на воздухе с сонмом святых и ангелов. Она простёрла над молящимися свой покров – омофор (головной плат) и вознесла Господу молитву о спасении мира и избавлении от бед и страданий.
Византийское предание привлекло внимание князя Андрея Боголюбского. Политический смысл посвящения собора Покрову Богородицы состоял в том, что покровительство Богоматери уравнивало Русь с Византией, а Владимир с Царьградом.
Празднование Покрова совпадало у славян с днём благодарения матери-земли за урожай. На Руси, кроме того, с незапамятных языческих времён было распространено почитание Девы-Зори, что расстилает по небу свою нетленную фату, прогоняя всякое зло. По народным поверьям, Дева-Зоря могла остановить кровь, спасти от всяких бед. Таким образом, в народном представлении Дева-Зоря и Дева Мария сливались в один образ, и Богородицын Покров был неотличим от зоревой пелены – то и другое защищало человека. На Покров нередко выпадал первый снег, играли свадьбы после завершения полевых работ. Отсюда сложилась поговорка: «Батюшка Покров, покрой мать сыру землю и меня, молоду».
Византийское предание на Руси было обогащении народными красками, и Покров стал одним из торжественных и любимых праздников на Руси.
«Столетиями перед храмом расцветали и умирали цветы и травы, а звериные и человеческие рельефы, стройный каменный пояс, порталы, украшенные резьбой, недвижимо возвышаются над окрестностью».[7]
Это лирическая поэма из камня, обращенная к внутреннему миру человека, его задушевным чувствам.
«Глядя на утончённый силуэт храма, вспоминаешь о том, что он построен в честь погибшего в лютой сечи семнадцатилетнего сына Андрея Боголюбского, юного князя Изяслава, которого народное предание называет вишенкой, срубленной в цвету. Убитый врагами юноша, возможно, и был похоронен на нерлинском холме или в самом храме. Возвратившись из победоносного похода против волжских булгар, Андрей скорбел о сыне, «яко человек», и сам выбрал место для этого храма.
Представляется почти необъяснимым выбор князем места для строительства храма – на луговине, затопляемой в половодье. Есть много различных предположений о причине выбора. Одно из них заключается в том, что раньше Клязьма подходила к храму гораздо ближе, чем ныне. Собор стоял при самом впадении Нерли в Клязьму, которая была судоходной рекой. Те, кто ехал во Владимир водным путём, могли, подъезжая к городу, дивиться красоте сооружения.
Древние камни, накладные рельефные маски, поросший травой холм, сам воздух окрестности, всё окружающее пространство насыщено духом истории…».[8]
В результате археологических раскопок было установлено, что зодчие, превосходно зная, что пойму весной заливает вода, проявили недюжинную инженерно-строительную изобретательность. Они соорудили высокий искусственный холм, одели его белым камнем. Фундамент уходит вглубь на расстояние свыше пяти метров. Таким образом, храм был надёжно защищён и от разлива, и от льдин, которые не раз шли на приступ каменного острова.
Внутри храма много света, струящегося из окон. Древняя живопись, украшавшая стены, не сохранилась. Собор неоднократно переделывался, фрески были замазаны и затем совсем отбиты. Ещё в середине 19 века можно было на стенах различить лики Спасителя, архангелов, апостолов. Откосы окон хранили признаки орнаментов. Но сегодня это всё безвозвратно потеряно.
В конце 18 века эта «жемчужина древнерусской архитектуры» чудом уцелела: её намеревались разобрать, чтобы использовать камень для постройки колокольни в Боголюбовом монастыре. Церковь уцелела лишь потому, что заказчики и подрядчики не сошлись в цене.
В чём же уникальность этого храма? Обычного типа небольшой четырёхстолпный храм, какие строились при Юрии Долгоруком. Но какое коренное различие! Вместо грузного, вкопанного в землю куба – устремлённость ввысь в общем облике и чуть ли не в каждой детали. Удивительное преодоление тяжести камня, материи в сказочной летучести удлинённых форм, подчас создающее впечатление невесомости.
Дата публикования: 2014-10-29; Прочитано: 560 | Нарушение авторского права страницы | Мы поможем в написании вашей работы!
