 |
Главная Случайная страница Контакты | Мы поможем в написании вашей работы! | |
По эту сторону добра и зла 4 страница
|
|
Такие книги, как «Жень-шень», писатель иногда и сам не знает, как смог написать, они ему как будто нашептываются, посылаются в награду за терпение, тяжесть литературного труда, упорство, одиночество.
«Как я писал «Женьшень», был в унижении газетных нападков, писал с коптилкой, — отняли у писателя электричество, а у соседа, слесаря-пьяницы, оно горело. Писал, не надеялся даже на признание, подавляя мысль об уходе из жизни. И написал!»3
А в 1937 году прямо заявил: «Единственная вещь, написанная мной свободно, — это "Корень жизни"»4.
На более официальном уровне Пришвин, правда, представлял эту историю иначе и связывал написание новой повести не с сопротивлением, а с роспуском РАППа. В 1934 году, когда Михаил Михайлович стал членом правления издательства «Советский писатель», он написал для издательской стенгазеты статью «Михаил Пришвин рапортует XVII съезду», где есть довольно любопытное свидетельство: «В период начала развернутого соц. строительства господство в литературе организ. РАПП своим бездушным, презрительным, надменным отношением к моему и всякому "по-своему" творчеству отбило у меня охоту писать. В это время я занимался изучением звероводства и, решив вовсе оставить литературу как профессию, начал переговоры с Картофельным институтом о работе моей в нем как агронома. Внезапный роспуск РАППа вернул меня к искусству слова. Я, обрадованный, в один месяц написал, как думаю сам и как говорят, лучшую вещь из всего мной написанного за всю жизнь— "Корень жизни"»5.
Эту книгу можно прочесть по-разному: и как поэму о любви — к женщине, к природе, к Божьему миру («Вот откуда произошел «Жень-шень»: из нерастраченного чувства любви»6), и как гимн отшельничеству, исповедь счастливого беглеца, удавшаяся таежная робинзонада в противовес робинзонаде несчастной, неудавшейся, дорогобужской или более ранней елецкой, или его нынешней, сталинской, среди людоедов. Наконец, «Жень-шень» — своеобразный справоч-
 ник по оленеводству, и не случайно, закончив работу над новым произведением, почувствовав творческую удачу, Пришвин высказал одно-единственное опасение: «Если только не окажется перегрузки в сторону оленеводства и описание этого будет читаться легко, то вещь будет очень хороша именно тем, что, несмотря на ее глубокое содержание, она будет читаться всеми»7.
ник по оленеводству, и не случайно, закончив работу над новым произведением, почувствовав творческую удачу, Пришвин высказал одно-единственное опасение: «Если только не окажется перегрузки в сторону оленеводства и описание этого будет читаться легко, то вещь будет очень хороша именно тем, что, несмотря на ее глубокое содержание, она будет читаться всеми»7.
И все же главное в «Жень-шене» не это. Прежде всего «Корень жизни» есть осуществившаяся утопия, и в утопизме заключена ее громадная литературная ценность, здесь получило новое и мощное развитие стремление Пришвина утверждать и созидать наперекор всему; здесь предъявлено живое литературное доказательство, что такое созидание даже в советских условиях возможно, что живя в пещере, можно приносить радость людям. «Вместе со всеми тружениками новой культуры я чувствую, что из природной тайги к нам в нашу творческую природу перешел корень жизни и в нашей тайге искусства, науки и полезного действия искатели корня жизни ближе к цели, чем искатели реликтового корня в природной тайге»8.
Нет никаких оснований считать эти слова уступкой времени и конъюнктурой, Пришвин искренне и с чистым сердцем написал книгу желанную, потому она имела успех, в ней он нащупал главное свое сокровище: умение писать поэтические сказки со счастливым концом и побеждать радостью страдание.
«Жень-шень» странная книга: она может показаться скучноватой, слишком красочной и экзотичной, несмотря на свой малый объем, чересчур подробной, но чем-то держится напряжение читателя, чем-то неуловимым, что и называется искусством, при том, что повесть получилась опять-таки бесчеловечной.
В самом деле, много ли мы знаем о герое, о женщине, ему привидевшейся*, о китайце Лувене и его товарищах -
 * Лишь много позднее, в Дневнике 50-х годов Пришвин написал об истории создания «Жень-шеня» и таинственной незнакомке: «Я облазил тайгу на материке по Амурскому заливу, был на островах и везде видел пятнистых оленей, и потом везде мне виделись их прекрасные глаза. Под конец я прибыл во Владивосток и тут однажды возле остановки трамвая увидел на солнце женщину, одетую в материю, переливающую из зеленого в синее. Сияние материи привлекло меня, и я захотел взглянуть ей в лицо. Я только успел заметить, что глаза у нее были, как у оленя, — она повернулась, прыгнула на ступеньку, и вагон покатился. Я бросился вагон догонять, но люди мне помешали. Во мне остались от женщины только глаза, а остальное в «Жень-шене» все дополнило воображение» (Пришвин М. М. Собр. соч.: В 6 т. Т. 6. С. 463).
* Лишь много позднее, в Дневнике 50-х годов Пришвин написал об истории создания «Жень-шеня» и таинственной незнакомке: «Я облазил тайгу на материке по Амурскому заливу, был на островах и везде видел пятнистых оленей, и потом везде мне виделись их прекрасные глаза. Под конец я прибыл во Владивосток и тут однажды возле остановки трамвая увидел на солнце женщину, одетую в материю, переливающую из зеленого в синее. Сияние материи привлекло меня, и я захотел взглянуть ей в лицо. Я только успел заметить, что глаза у нее были, как у оленя, — она повернулась, прыгнула на ступеньку, и вагон покатился. Я бросился вагон догонять, но люди мне помешали. Во мне остались от женщины только глаза, а остальное в «Жень-шене» все дополнило воображение» (Пришвин М. М. Собр. соч.: В 6 т. Т. 6. С. 463).
они проходят фоном, они если и личности, то слишком стертые, тусклые, гораздо большей личностью по сравнению с ними выглядят и щедрее написаны Хуа-Лу или боевые олени-самцы. Но это и есть искусство «поверх барьеров». Рассуждал, рассуждал Пришвин о любви, в Дневниках, в «Кащеевой цепи», иногда занудно и утомительно, а чаще живо и непринужденно, вилась и кружилась его мысль, точно преследовала запутавшего следы зверя, и настигла его. Не героиню свою, но самую жизнь удалось схватить Пришвину за копытца. И читающая Россия, очень разная, противоречивая, это оценила, и Пришвин успех почувствовал: не случайно он привел в Дневнике восхищенную оценку «Жень-шеня» А. М. Коноплянцевым, который считал, что повесть войдет в мировую литературу, и Пришвин, сам это понимая, лишь суеверно старался «не придавать этому большого значения», чтобы о себе не возомнить и не помешать дальнейшим исканиям, а между тем «о «Женьшене» даже рецензии нет нигде»9.
Отсутствие рецензий ничего не означало. Как тридцать лет назад, в жизни наступил «перелом» — вчера еще гонимый, затравленный, униженный, готовый все бросить или покончить с собой, прошедший сквозь большевистский пусть не ад, но чистилище (чистки), Пришвин вновь оказался на коне.
Мирный договор между старейшим писателем (с некоторых пор Михаил Михайлович полюбил эту дефиницию, за которую было удобно прятаться, снисходительно называя своих критиков «юношами») и пролетарской властью был подписан осенью 1932 года на Пленуме организационного бюро по подготовке Первого съезда советских писателей, куда Пришвин попал по приглашению навсегда вернувшегося из-за рубежа Алексея Максимовича Горького и где выступил с примиряющей речью, причем в полном соответствии с традициями дипломатии и искусства пропаганды каждая из сторон считала победительницей себя.
Пришвин: «30-го моя речь «Сорадование». Победа. Воистину Бог дал. Самое удивительное, что вынесло меня по ту сторону личного счета со злом и оба героя, бонапарты от литературы Горький и Авербах, получили в моей речи по улыбке»10.
А вот что думали об этой ситуации верхи. Вскоре после пленума И. М. Гронский написал Сталину и Кагановичу: «Наметившийся на первом пленуме поворот правых писателей в сторону советской власти (заявления Андрея Белого, М. М. Пришвина, Пантелеймона Романова, Рюрика Ивне-
ва, Бор. Пильняка, укр. пис. и др.) оказался более значительным, чем мы предполагали вначале»".
По всей видимости, эти настроения нашли отражения либо в прессе, либо в охочей до слухов и пересудов литературной среде, и две недели спустя Пришвин с горечью написал в Дневнике: «Чем дальше отходим от Пленума, тем гнуснее становится положение писателя в СССР: ведь если мою сказанную речь и Белого исказили на свою пользу, то как же в невидимых и неслышимых делах! И далеко ли можно уехать во лжи!»12
На самом деле речь Пришвина была противоречивой, и искренность в ней мешалась с недомолвками и лицедейством, к которому писатель уже давно прибегал. Ничего иного и быть не могло. Берендей охранял свою пещеру от людоедов как умел, и если сравнить основные положения выступления с дневниковыми записями предшествующих лет, можно увидеть то ли игру, то ли диалог с самим собой, — но в любом случае хорошо скрытое ерничество и фирменную пришвинскую ядовитость:
«В прежнее время литература была невыгодным занятием, а сейчас она — выгодное занятие (...) Государство покровительствует литераторам. Я думаю, что нигде в мире нет такого покровительства писателям, какое существует у нас», — говорил Пришвин на пленуме13.
(«Литература, вероятно, начнется опять, когда заниматься ею будет совершенно невыгодно», — писал он меньше года назад в Дневнике14.)
«А тут ударничество пошло. Это замечательное явление», — продолжал писатель на пленуме15.
(«К. вчера рассказывал, что на фабриках и заводах ходят бригады каких-то «писателей» и говорят рабочим: «Товарищи! У нас на литературном фронте прорыв, идите помогать писателям» и т. п.
Я вчера в лесу в кустах спугнул какого-то оборванца, у него был карандаш в руке и тетрадка — это, конечно, «писатель». Было очень мрачно, в этих ноябрьских кустах, голых совершенно и подостланных желтой травой. Оборванный поэт, молодой человек, безумными глазами окинул меня и побежал...» — записал Пришвин в Дневнике16.)
«Я всю жизнь мечтал о том, что из низов пролетариата, из низов крестьянства будут выходить поэты. Но мне казалось, что их будет выходить гораздо больше, нежели они теперь выходят. Они выходят меньше, чем должны быть. Но все-таки это явление меня глубоко волнует», — говорил он на пленуме17.
(«Потом встретился сумасшедший Александр Иванович Майоров, нес провизию с рынка и не удержался: из-под хлеба достал переплетенную тетрадку своих стихов, тех самых, которые отвергли все редакции. Он уже было совсем отчаялся и запил на некоторое время, я думал — кончилось. Нет, вот опять. Он же теперь все переписал, многое исправил, переплел. «Может быть, теперь напечатают?» — робко спросил он. Неизлечимая болезнь, куда хуже алкоголя. И сколько их», — записывал он в Дневнике18.)
Но были в этой речи и совершенно искренние высказывания:
«Вы работаете, вы все-таки нервы отдаете работе, у человека годы проходят на этой работе (странное и какое-то неслучайное интонационное совпадение с будущим знаменитым монологом Егора Прокудина из «Калины красной» Шукшина. — А. В.), и вдруг говорят, что вы мистик, вы разъяснены. Я хочу какого-то содружества, радости, а тут черт знает что получается (...) Я потерял читателя. Такое было у меня состояние до постановления ЦК партии (...) Ужасно скверно и оттого, что между нами враждебное чувство, мы не радуемся, мы — такие люди, которые пришли в литературную среду, ничего общего с ней не имея, друг друга не понимаем и не радуемся друг другу»19.
Далее, как сказано в стенограмме, последовали «продолжительные, долго не смолкающие аплодисменты».
Окончательная индульгенция Пришвину со стороны властей была оформлена в следующем, 1933 году, когда писателю исполнилось 60 лет. Юбилей отмечали в Дубовом зале теперешнего ЦДЛ, на вечере среди прочих выступал Андрей Белый, которому оставалось жить меньше года, и, по воспоминаниям Реформатской, его речь была «дружественно-восторженной», он рассказывал о волшебнике слова, вышедшем из глуши северных лесов и озер. Юбиляр, развивая начатую на пленуме карнавальную традицию, выступил с докладом, который позднее переделал в статью «Мой очерк» — еще одну «охранную грамоту» 30-х годов, опубликованную в «Литературной газете».
«Мой очерк» — произведение неожиданное, уникальное по приему. Оно написано Пришвиным о самом себе в третьем лице в весьма комплиментарной и настолько серьезной, назидательной манере, так веско, что даже трудно заподозрить игру, хотя, конечно же, это одно из самых игровых произведений русской литературы 30-х годов — странная
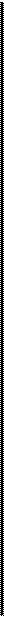 пародия на несуществующий жанр апологетической критики малосоветского (как бывают малосольные огурцы) писателя, ответ хулителям и чистильщикам из тридцатого года и — как сверхзадача — увод всего написанного из-под огня недружественной критики путем объявления собственного наследия очерками: от первого — «В краю непуганых птиц» до последнего — очерка своей жизни «Кащеева цепь» и книги «Журавлиная родина».
пародия на несуществующий жанр апологетической критики малосоветского (как бывают малосольные огурцы) писателя, ответ хулителям и чистильщикам из тридцатого года и — как сверхзадача — увод всего написанного из-под огня недружественной критики путем объявления собственного наследия очерками: от первого — «В краю непуганых птиц» до последнего — очерка своей жизни «Кащеева цепь» и книги «Журавлиная родина».
Для своего времени, когда над русской литературой пронеслась, по выражению Л. М. Леонова, «очерковая буря», то был грамотный тактический ход, снимавший все упреки во враждебности, несовременности, аполитичности и прочих грехах. Свое же творческое кредо Пришвин сформулировал следующим образом, как будто бы нимало не противоречащим канонам зарождающегося социалистического реализма: «У нас понимают под реалистом обыкновенно художника, способного видеть одинаково и темные и светлые стороны жизни, но, по правде говоря, что это за реализм! Настоящий реалист, по-моему, это кто сам видит одинаково и темное и светлое, но дело свое ведет в светлую сторону и только пройденный в эту светлую сторону путь считает реальностью»20.
Публикация очерка в «Литературной газете» предварялась небольшой поощрительной статьей Горького. Благодаря этой литературной акции, при чудовищных горьковских наворотах, впрочем, прекрасно рифмовавшихся с его же предисловием к собранию сочинений Пришвина конца 20-х годов («Мы должны оплодотворить страстью к знанию 160 миллионов единиц — вот идеальная цель!»21), прошедший сквозь чистки рубежа десятилетий Пришвин был окончательно легализован в советской литературе — как добросовестный творческий очеркист — взят под охрану, и с этого момента его творческие дела пошли в гору.
Пришвин чувствовал себя победителем и мысленно отвечал на лучший по его мнению вопрос, который могли бы ему задать критики и читатели и который он сам себе в Дневнике задавал:
«Каким образом вы уцелели, Михаил Михайлович, и как это вы сохранились?» — и, приведя в пример Гёте, заключал: «Я шел путем всех наших крупнейших писателей, шел странником в русском народе, прислушиваясь к его говору»22.
В конце десятилетия эта мысль опрокинется и зазвучит иначе: «Я часто думаю о себе, как я мог уцелеть как писатель в тяжелых условиях революции, как не стыдно так сохраниться»23, но тогда, окрыленный успехом, полный вдох-
новения и сил Пришвин размышлял над продолжением «Кащеевой цепи», и далекая по времени, но близкая душе эпоха богоискательства по-прежнему привлекала его.
Летом победоносного 1933 года, за три недели до знаменитого писательского десанта, Пришвин вместе с сыном Петей отправился на Север, в те самые края, где путешествовал четверть века назад, но где теперь жизнь так переменилась: в краю, по которому проходили его ранние дороги, заканчивали строить «дорогу государеву» — Беломорско-Балтийский канал имени И. В. Сталина.
Попасть в эти места теперь по доброй воле было делом невозможным, вопрос о поездке могли решить только в ОГПУ, и каким образом Пришвин связался с этой организацией и почему его поездка происходила по индивидуальному плану, а не вместе со всем писательским коллективом, была ли на то его воля или так сложились обстоятельства, остается только гадать. Некоторый свет проливает статья из стенгазеты «Совписа», на которую я уже ссылался и где Пришвин объяснил идею своего путешествия следующим образом:
«Вместе с возвращением к лит. творчеству нового времени я задумал пересмотреть все написанное мной, начиная с очерков севера, и начать издание своих сочинений в свете самокритики. С этим предложением я обратился в Оргкомитет (скорее всего по подготовке Первого Всесоюзного съезда писателей. — А. В.) и просил оказать мне содействие в поездке на Белом, канал, в Хибины, Новострой и т. д. Повторные мои заявления оставались без ответа до тех пор, пока решающее место в Оргкоме не занял т. Фадеев. Тогда Оргкомитет обратился к ГИХЛу (Государственное издательство художественной литературы. — А. В.) и в ОГПУ, к первому с предложением издать мои северные книги, ко второму — оказать помощь в поездке на места. После поездки на север я принял участие в создании коллективного труда писателей о Беломорском канале, переработал и сдал в печать свою первую книгу "В краю непуганых птиц", через короткое время я сдал другую книгу о севере — "Колобок"»24.
Из этой поездки Пришвин привез два очерка, одному из которых дал название «Отцы и дети (Онего-Беломорский край)», а другому — «Соловки». Оба текста издавались мало (в «Красной нови» и в первом томе собрания сочинений 1935—1939 годов, где автор включил «Отцов и детей» в текст «В краю непуганых птиц», а второй прибавил к «Колобку»),
но новые произведения не были включены в известный сборник «Канал имени Сталина», изданный в Москве в 1934 году, для которого писались. Пришвин был уязвлен, но записал в Дневнике: «Шумяцкий поздравлял меня с тем, что я там отсутствую: вышла столь ничтожная вещь!»25 Ни в шеститомное 1956—1957, ни в восьмитомное 1982—1986 годов издание собрания сочинений Пришвина, ни в многочисленные книги избранных произведений писателя 50—80-х годов эти очерки не входили и на сегодняшний день стали едва ли не раритетом.
Пришвин писал новые очерки, имея в виду собственную теоретическую установку освоения материала и «с тревогой, что не осилишь прошлого, не найдешь в себе достаточно уважительного внимания к новому, чтобы выбрать и понять в прошлом живые творческие силы, это же новое и создавшие»26. Таким образом, писатель намеревался связать две эпохи, причем связующим звеном выступала не столько преображенная человеческим трудом земля и ее преобразователи (или жертвы этого преобразования), сколько личность писателя, и поэтому в терминах строительства гидросооружений он описывал снова свой путь и вспоминал первую книгу, некогда здесь задуманную: «Первая моя книга была первым шлюзом моего литературного канала, ведущего на новую родину»27.
Так и вышло, что, еще не остыв от юбилейной горячки, речей, поздравлений и статей, Пришвин опять написал книгу о своем становлении как художника. Самая больная тема описанного им строительства — использование рабского труда — получила на страницах новых «Края» и «Колобка» такое освещение, что, читая сегодня иные из пришвинских строк, диву даешься, как мог он их написать и как могли их опубликовать и ничего ему за это не сделать?
Судите сами. Вот едет писатель в поезде и ведет (излюбленный его очерковый прием) разговор с попутчиками:
«С большим сочувствием я обратился к своему соседу, грустному железнодорожному старику:
— Этот край — ваша родина, или, может быть, вы здесь
нашли себе родину?
— Мне дали катушку, — ответил старик.
Я не понял. Он сказал по-другому:
— Червонец.
Другой пассажир помолчал, спросил:
— Вы получили катушку через вышку?
Это значило: десять лет взамен высшей меры.
— Нет, — сказал железнодорожный старик, — я получил
просто катушку, и мне ее учли за три года моей работы. После того я уже семь лет добровольно работаю.
Что было на это сказать, ведь я только что думал о своей первой утерянной родине и потому постарался утешить старика:
—К лучшему, может быть, потеряли, — сказал я.
—Да, — ответил старик с улыбкой, — в этом роде думают
тоже и заключенные урки»28.
И все... ни комментариев, ни оговорок, ни объяснений — за что дали старику срок (убил сельского активиста, украл колосок, был кулаком, купцом, вором, белогвардейцем?), почему так, а не иначе думают урки о потерянной родине, почему он не едет домой, где его семья — здесь нет всей той тягучей, приторной дидактики, ни обязательного рассказа о прошлой жизни, ни пафоса перевоспитания, которыми наполнен сборник «Канал имени Сталина». («Книга рассказывает о победе небольшой группы людей, дисциплинированных идеей коммунизма, над десятками тысяч социально-вредных единиц», — писал М. Горький в заключении к коллективному труду советских писателей29.) Пришвин остался верен себе, написав лишь о том, что видел («В этом и есть секрет моей долговечности в литературе: я пишу только о том, что сам лично пережил»30), — но сколько встает за этой мимолетной сценой!
Или другой эпизод. По дороге на Соловки, в Кеми, автор описывает хор мальчиков, составленный из Соловецких урок — как будто благое начинание советской власти — но рядом с картиной поющих «Интернационал» мальчиков портрет дирижера: «Старый музыкант, с лицом фавна, такой худой, что рыбьи ребра его обозначились даже из-под рубашки».
В этих небольших по объему очерках «бесчеловечный» Пришвин возвращался к теме людского всеобщего страдания не раз, постоянно ее если не подчеркивал, то обозначал контуры, иногда это страдание подневольных людей, от бесправного зэка до бесправного врача или инженера, пробивалось в сценах, написанных, чтобы вызвать у читателя улыбку. Например, такая: объевшись в Кеми знаменитой соловецкой селедкой, сопровождавший отца Петя заболел животом. А пора было выходить в море.
«Ни малейшего смущения не было на лице нашего начальника при виде умирающего гостя. С чисто американской деловитостью взял он трубку телефона, вызвал старшего врача и тут же, по телефону, узнав, во сколько часов пароход отходит в Соловки, велел врачу, указывая на полу-
мертвого Петю: «Поставить на ноги!» — «Есть!» — отозвался врач»31.
Как легко догадаться — поставили.
В Дневнике Пришвин скупо написал об обстоятельствах своего путешествия и о том, как оно осуществлялось. Но из очерков можно понять: Пришвина и Петю, что называется, непринужденно вели. Вот как все начиналось: «Мы явились в Услаг за пропуском в Соловки и просили дежурного передать начальнику Услага записку из Москвы с простым содержанием, написанным второпях, кое-как чернильным карандашом: начальник главного управления лагерями просил оказывать мне всякое содействие в отношении передвижения, питания, жилища, с особенной просьбой показать все интересующее нас»32.
Однако с показом все вышло не так просто. Когда по дороге на архипелаг писатель попытался пообщаться с командой буксира «Ударник», состоявшей из заключенных, он потерпел горчайшее фиаско (хотя и о путешествии на поезде в Дневнике Пришвин написал иначе, чем в очерке: «В вагоне люди молчали; первая ступень цивилизации: не болтать, живи сам с собой и делай; не болтают и отвечают кратко...»33).
«На вопросы они отвечали дельно и коротко, оставляя внутри себя свою личную жизнь. В виде опыта я заводил речь об их личной жизни, как живется, как что нравится или не нравится; и все они отвечали мне как воспитаннейшие англичане: кажется, очень искренне и с большой готовностью, но в то же время наставляя тебе обеими ладонями в растопырку длинный нос»34.
Что-то он видел сам, что-то рассказал ему его Вергилий — начальник культурно-воспитательной части по фамилии Гернеш, хотя отношения между писателем и комиссаром не сложились и Пришвин чувствовал в обращении маленького лагерного начальника с дотошным посетителем то же, что и с вышколенной командой «Ударника» — свою ненужность в этом мире и наставленный нос:
«Он очень почитал меня, как известного писателя, тридцать лет тому назад написавшего «Колобок», книгу о севере, и везде говорил о моем волшебном проводнике, превращающем всякую действительность в сказку, но он глубоко презирал во мне, ныне существующем, живого человека, способного еще что-нибудь написать, и не видел колобка, ведущего меня в этом путешествии»35.
Видел ли его Пришвин — вот вопрос. Нет ли здесь новой мистификации или игры: откуда было Гернешу прочесть
«Колобок» и уж тем более говорить о превращении действительности в сказку? Не сам ли Пришвин встает на его точку зрения, отстраняясь от себя и своей задачи описать неволю? Пришвин изо всех сил пытался остаться верным себе и сохранить преемственность творческого пути — не случайно по форме соловецкий очерк, как и посвященная Соловецкому монастырю глава из «Колобка», построены в форме письма к другу.
«Дорогой друг! Не хотел бы я быть заключенным и вовсе не потому, что боялся бы утратить личную свободу, — нет! Я не хотел бы заключение только потому, что едва бы мог найти в себе такую силу, чтобы справиться с чувством личной обиды, мешающей, независимо от себя, уязвленного, следить за движением истории. Я тоже не хотел бы остаться равнодушным и быть только свидетелем. А вот бы мне очень хотелось принять к сердцу соловецкое дело и творчески продолжить его и просветить ясным сознанием...»36
В старом «Колобке» таким другом и адресатом был А. М. Ко-ноплянцев.
В новом — формально тоже, а по существу... Впрочем, свою версию я предложу немного позднее.
Как и упомянутый в первом крае непуганых птиц Над-воицкий водопад (так сильно изменившийся после строительства Беломорканала: «Узнавал долго, вдруг увидел: черные неподвижные камни, как беззубая почерневшая челюсть... а тогда было, как белые зубы. И так за 30 лет народ русский: то русло почернело... а вода бежит по иному пути»37), Соловецкий монастырь для Пришвина — место символичное, своеобразная веха, и он постоянно оглядывался назад, обращался к прошлому — не монастыря, но своей встречи с ним:
«Тогда еще Соловки были мне как прошлое моего родного народа, как милая древность с неприятным для меня запахом ладана и постного масла. Тогда в письмах своих к вам я добродушно посмеивался над тем, что для некоторых тогда еще было святыней. Но теперь это прошлое совершенно прошло, и встреча с ним тяжела: тебе хочется трудную жизнь свою кончить песней о здравии, а родные древности требуют, чтобы ты служил им заупокойную»38.
Служить панихиду следовало бы не только по реликвиям. Пришвин видел и безмерное страдание живых. «Север: гонимые матери с младенцами, и все, что мы видели на Соловках, и статуя на канале, и трупы в лесах»39, — записал он в Дневнике. Сказать о главных узниках острова и строителях лагеря — крестьянах, священниках, монахах, дворянах,
офицерах — он не мог, но странным образом перекликаясь на сей раз уже с третьей своей книгой о русских сектантах («У стен града невидимого») при нынешнем далеком от идеализации отношении к бегунам, которые пополняли число арестованных и жестоко страдали, ибо за отказ выходить на работу почти не получали еды, Пришвин сумел сказать об их трагедии, и щемящие детали реальной лагерной жизни невольно пробивались сквозь ткань волшебного повествования.
«И так вышло против всякого желания начальства, что несколько десятков таких людей долго сидели, отказываясь от работы, и не называли своих имен. Они пересидели все сроки, и их охотно бы выпустили, но в том-то и дело, что странникам невозможно было по своим убеждениям открыть свои имена, а начальству невозможно было отпустить на волю безымянных людей»40.
В сюжете с бегунами-отказниками путешественника привлекла история одной девушки, которую комиссар Гернеш, «понимая, как это неестественно живому прекрасному существу оставаться среди хлама, среди никому не понятного суеверия», сумел обманом привлечь к уходу за телятами, а потом за хорошую работу наградил отрезом материи на юбку. Отрез материи был столь невелик, что юбка получилась короткая.
«Когда Маша Отказова, зардевшись, принесла отрез, ей прислали портниху, и когда платье было готово и она увидела себя в коротенькой юбочке, то сама тут же попросила фотографа, чтобы сняться и дальше процветать на этом приятном пути ухода за холмогорскими телятками»41.
Эта сентиментальная, с легким и зловещим налетом гулаговской эротики история (что ждало эту девушку и для какой судьбы ее готовили?) перекликается с другой женской судьбой — молодой монашки, которая в лагере забеременела, дважды пыталась покончить с собой, а потом все-таки родила. Когда же повествователь, услышавший этот сюжет от акушерки, попытался осудить безответственного папашу, рассказывавшая ему о лагерной любви женщина разгневалась «за недоброе слово» и «долго говорила о проделках и ухищрениях никому не известного Фауста, помогавших ему, чтобы изредка видеться с матерью и передать ей все, что он заработает».
Об этом он смог написать. О том, что не поверил ни в какую перековку («Можно восхищаться деятельностью нашего правительства в отношении воров, но только нельзя понимать «перековку» в глубоко моральном смысле и ре-
веть, как Горький»*42), что Беломорканал строили в основном крестьяне, а вся слава отдана уголовникам — нет.
От Соловков у Пришвина осталось такое впечатление: «Я почувствовал Соловки в двух планах: одни Соловки — чисто человеческие — ушли отсюда на Беломорский канал, другие коренятся в местной природе, уйти с места не могут и обещают в будущем что-то новое и нам неизвестное»43.
Последнее и есть главная идея двух очерков. Пройдут годы, десятилетия, может быть, столетия, забудутся лагерь и страдания тех, кто строил канал, — жизнь на Земле будет радостна и счастлива, «мы увидим небо в алмазах» — вот это имея в виду, и надо писать. Бегство в будущее, в те времена, когда Соловки станут санаторием, — вот была сверхзадача Пришвина, получившая в новых очерках окончательное подтверждение; автор чрезвычайно увлеченно об этом размышляет, рассуждает о возможностях северного края, его климате, природе, пейзажах, может быть, ради этого все и было написано и этой высшей, «набоковской»**, целью пытался оправдать свою поездку, но, верно, мы не дожили еще до этих счастливых и безмятежных будущих времен и пока что первый план для потомков остается важнее, и долго еще читатели будут спрашивать: а что написал он про увиденное в аду?
Дата публикования: 2014-11-04; Прочитано: 197 | Нарушение авторского права страницы | Мы поможем в написании вашей работы!
