 |
Главная Случайная страница Контакты | Мы поможем в написании вашей работы! | |
Часть II 8 страница
|
|
ства, и, несмотря на это, для него лучше так страдать, чем следовать за толпой в неправедных поступках40.
Не стоило бы повторять все это, если бы не столь частое допущение, что девиантное поведение является неизбежно эквивалентным социальной дисфункции, а социальная дисфункция, в свою очередь, нарушает этический кодекс. В истории каждого общества, вероятно, есть свои культурные герои, которые считаются героями именно потому, что они имели мужество и проницательность отойти от норм, которые признаются в группе. Как мы хорошо знаем, мятежники, революционеры, нонконформисты, индивидуалисты, еретики и отступники прежнего времени часто становятся героями современной культуры.
Следует также еще раз повторить, поскольку это легко забывается, что, сосредоточив эту теорию на культурных и социальных источниках девиантного поведения, мы не предполагаем, что подобное поведение является типичной или даже единственной реакцией на воздействие, которое мы рассматривали. Это анализ различных типов и интенсивности девиантного поведения, а не эмпирическое обобщение ради вывода, что все, кто подвержен этому давлению, реагируют через девиацию. Теория только полагает, что именно люди, локализованные в тех участках социальной структуры, которые в наибольшей мере испытывают это давление, вероятнее всего продемонстрируют девиантное поведение. Однако в результате действия компенсирующих социальных механизмов даже наиболее напряженные положения не всегда вызывают девиацию; конформность стремится сохранить формальную реакцию. Среди компенсирующих механизмов, как предполагалось в предшествующей главе, — доступ к альтернативным целям в хранилище общих ценностей. В той степени, в какой культурная структура придает ценность этим альтернативам, а социальная структура дает доступ к ним, система остается чем-то стабильным. Потенциальные девиации могут все же адаптироваться с помощью дополнительного ряда ценностей. Исследование было начато с изучения таких альтернатив как препятствий для девиантного поведения403.
40 Gilbert Murray, Greek Studies (Oxford: Clarendon Press, 1946), 75. Упоминается вторая книга Платона «Государство». Прекрасный вопрос для обсуждения — соответствуют ли оригинальные формулировки Платона пересказу Гилберта Муррея. — Примеч. автора.
40а См.: Ruth В. Granick, Biographies of popular Negro heroes. Используя методы, разработанные Лео Ловенталем в его исследовании известных биографий, Граник анализирует социальную принадлежность негров-героев в двух популярных журналах, предназначенных главным образом для читателей-негров, в контексте, соответ-


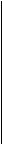
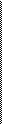

 В кратких итогах, таким образом, следует подчеркнуть, что (1) данная теория относится к целям различных видов, предпочитаемым в культуре, а не только к цели денежного успеха, которая рассматривалась в качестве иллюстрации; (2) что в теории выделены формы де-виантного поведения, которые могут быть далеки от тех, которые представляют нарушение закона; (3) что девиантное поведение не обязательно является дисфункциональным для эффективной деятельности и развития группы; (4) что понятие социальной девиации и социальной дисфункции не служит прикрытием для этических предпосылок; и (5) что альтернативные культурные цели дают основу для стабилизации социальной и культурной системы.
В кратких итогах, таким образом, следует подчеркнуть, что (1) данная теория относится к целям различных видов, предпочитаемым в культуре, а не только к цели денежного успеха, которая рассматривалась в качестве иллюстрации; (2) что в теории выделены формы де-виантного поведения, которые могут быть далеки от тех, которые представляют нарушение закона; (3) что девиантное поведение не обязательно является дисфункциональным для эффективной деятельности и развития группы; (4) что понятие социальной девиации и социальной дисфункции не служит прикрытием для этических предпосылок; и (5) что альтернативные культурные цели дают основу для стабилизации социальной и культурной системы.
Ритуализм
В соответствии с типологией ритуализм относится к образцу реакции, в которой определенные культурой стремления отвергаются, в то время как человек вынужденно продолжает придерживаться институциональных норм. Когда это понятие было введено, был задан вопрос, представлено ли здесь действительно девиантное поведение, так как это понятие является чем-то вроде терминологического каламбура. Поскольку адаптация является фактически внутренним решением и поскольку внешнее поведение является институционально допустимым, хотя и не предпочитаемым сточки зрения культуры, оно вообще не рассматривается как «социальная проблема». Друзья тех людей, которые адаптируются подобным образом, могут вынести суждение с точки зрения культурных предпочтений и могут испытывать к ним жалость, они могут в индивидуальных случаях чувствовать, что
ствующем рассматриваемой здесь теории девиантного поведения. Она видит различные нуги к успеху в мире предпринимательства для негров и белых, хотя, очевидно, ценимые статусы во многом похожи для этих двух подгрупп. Наиболее важно в ее предварительных выводах, что доступ к альтернативным целям успеха создает скорее возможности для конформного, чем для девиантного, поведения. Хорошо известное исследование Ловенталя «Биографии в популярных журналах» см. в P. F. Lazarsfeld and F.N. Stanton (editor), Radio Research, 1942-1943 (New York: Due», Sloan and Pcarce, 1944).
Были также отмечены образцы потребительского поведения (например, проникновение стилей и моды в системе стратификации), которые являются латентной функцией для создания системы, удовлетворяющей даже тех, кто недостаточно поднялся в ней. См.: Bernard Barber и Lyle S. Lobel, «Fashion in women's clothes and the American sociaal system», Social Forces, 1952, 31, 124—131, и статья Lloyd A. Falles, «A note on the «trickle effect», Public Opinion Quarterly, 1954, 18, 314—321.
Относящиеся к данному вопросу наблюдения различных символов, достижение которых служит смягчению ощущения личной неудачи, см.: Margaret M. Wood, Paths of Loneliness (New York: Columbia University Press, 1953), 212 ff. — Примеч. автора.
«старый Джонси, конечно, не может выбраться из привычной колеи». Описывается ли это как девиантное поведение или нет, оно, очевидно, представляет отклонение от культурной модели, согласно которой люди обязаны активно бороться, предпочтительно с помощью институционализированных методов, чтобы продвигаться вперед и вверх в социальной иерархии.
Таким образом, предполагалось, что острое беспокойство о статусе в обществе, которое акцентирует мотив достижения, может вызвать девиантное поведение «сверхконформности» и «сверхуступчивости». Например, подобная сверхуступчивость может быть обнаружена среди «бюрократических виртуозов»: некоторые из них могут чрезмерно приспосабливаться именно потому, что они испытывают чувство вины, вызванное их предыдущим нонконформистским отношением к правилам41. Кстати, существует очень мало систематических данных, подтверждающих эту гипотезу, разве что психоаналитические исследования двадцати «бюрократов», которые обнаружили, что они становятся вынужденными неврастениками42. Однако даже эти скудные данные не связаны напрямую с нашей теорией, которая должна иметь дело не с типами личности, что важно для других целей, но с типами исполнения ролей в реакции на социально структурированную ситуацию.
Более прямое отношение имеют исследования поведения бюрократов Питера М. Блау43. Он предполагает, что наблюдаемые случаи сверхконформизма «не вызваны тем, что ритуальная приверженность существующему способу действия должна стать неизбежной привычкой» и что «ритуализм происходит не столько от чрезмерной солидарности с инструкциями и сильной привычки к закрепившейся практике, сколько от недостатка уверенности в важных социальных взаимосвязях в организации». Короче, именно тогда, когда структура ситуации не уменьшает беспокойство о статусе и беспокойство о возможности соответствовать институционализированным ожиданиям, люди в этой организации реагируют со сверхподчиненностью.
Ситуации, сформированные социальной структурой, которая провоцирует ритуалистическую реакцию сверхконформизма на нормативные ожидания, были экспериментально и, конечно, только гомоло-
41 См. обсуждение «структурных источников сверхконформности» в главе VIII и
«отступников» и «обращенных» в главах X и XI этой книги; атакже замечание Парсонса
и Бейлса: «Наиболее важное представление в этой связи (относительно их независимо
разрабатываемых теорий) состоит в том, что сверхконформность следует определить как
девиацию». Parsons at at. Working Papers, 75. — Примеч. автора.
42 Otto Sperling, «Psychoanalytic aspects of bureaucracy», Psychoanalytic Quarterly, 1950,
19, 88—100. — Примеч. автора.
43 P.M. Blau, The Dynamics of Bureaucracy, глава XII, с. 184—193. — Примеч. автора.
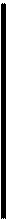





 гично воспроизведены среди козлов и овец. (Читатель, конечно, не поддастся искушению сделать вывод, что нет более символически подходящих животных, чтобы выбрать их для этой цели.) Ситуация, провоцирующая ритуализм, мы напомним это, включает либо постоянную фрустрацию из-за важных целей, либо длительный опыт, в котором награда не пропорциональна конформизму. Психобиолог Говард С. Лиддел фактически воспроизвел оба этих условия в серии экспериментов44. Среди этих примеров следующий:
гично воспроизведены среди козлов и овец. (Читатель, конечно, не поддастся искушению сделать вывод, что нет более символически подходящих животных, чтобы выбрать их для этой цели.) Ситуация, провоцирующая ритуализм, мы напомним это, включает либо постоянную фрустрацию из-за важных целей, либо длительный опыт, в котором награда не пропорциональна конформизму. Психобиолог Говард С. Лиддел фактически воспроизвел оба этих условия в серии экспериментов44. Среди этих примеров следующий:
Каждый день приведенный в лабораторию козел подвергается простому тесту: каждые две минуты стук телеграфа от секунды до десяти секунд предшествует воздействию электричества на переднюю ногу. После двадцатикратного повторения комбинации «сигнал—шок» козла возвращают на пастбище. Вскоре достигается удовлетворительный уровень моторного навыка, и, очевидно, животное хорошо адаптируется к этой конвейерной процедуре. В течение шести или семи недель наблюдатель отмечает, что постепенно возникают изменения в поведении животного, которое охотно приходит в лабораторию, но при входе демонстрирует определенную заученную осмотрительность, и его условные реакции являются крайне точными. Кажется, будто он старается «совершать только правильные поступки». Несколько лет назад наша группа стала называть подобных животных «пер-фекиионисты»... Мы обнаружили, что в лаборатории Павлова выражение «правильное поведение» использовалось для характеристики такого поведения у собак.
По-видимому, здесь есть нечто большее, чем мимолетное сходство с тем, что мы описали как «синдром социального ритуалиста», который «реагирует на ситуацию, которая кажется угрожающей и вызывает недоверие» с помощью «все более тесной привязанности к спасительной рутине и институциональным нормам»45. И действительно, Лиддел далее сообщает, что «мы можем предположить сходное поведение у человека при угрожающих обстоятельствах, что можно найти у Мира в описании шести стадий человеческого страха (первая из которых описана следующим образом):
Предусмотрительность и самоограничения. При внешнем наблюдении субъект проявляет скромность, предусмотрительность и непритязательность. Посредством добровольного самоограничения он ограничивает свои цели и амбиции и отвергает все те удовольствия, которые влекут за собой риск или неблагоприятные последствия. Человек на этой стадии
44 Условно подведен итог в Howard S. Liddell, «Adaptation on the threshold of
intelligence», Adaptation, edited by John Romano (Ithaca: Cornell University Press, 1949),
55—75. — Примеч. автора.
45 Глава VI этой книги. — Примеч. автора.
уже под подавляющим влиянием страха. Он реагирует с предупреждающим уклонением от надвигающейся ситуации. Интроспективно субъект даже не осознает наличие страха. Напротив, он скорее доволен собой и горд, поскольку он считает, что ведет себя более предусмотрительно, чем другие люди46.
Этот характерологический портрет вынужденного конформиста, который благодарит Бога, что он отличается от других людей, изображает существенные элементы реакции ритуалистического типа на угрожающую ситуацию. Социологическая теория обязана определить структурные и культурные процессы, которые создают высшую степень таких состояний угрозы в определенных частях общества и ничтожную степень в других. Именно к этому типу проблем обращается теория социальной структуры и аномии. Таким образом, рассматривая примеры ритуализма, мы продемонстрировали объединение «психологических» и «социологических» объяснений наблюдаемых образцов поведения.
Дальнейшие подходящие данные и идей (в центре которых скорее личность, чем исполнение роли в определенных типах ситуаций) обнаружены в исследованиях, направленных на «нетерпимость неопределенности»47. Недостаток этих исследований в отсутствии систематического включения переменных и динамики социальной структуры, что в основном компенсируется с помощью точной характеристики компонентов, которые, вероятно, входят в ритуалистические реакции на сформированные ситуации, а не только в структуру ригидной личности. В итоговом беглом перечислении компоненты «нетерпимости неопределенности» включают: «чрезмерное предпочтение симметрии, подобия, определенности и регулярности; тенденцию к черно-белым решениям, сверхупрощенную дихотомизацию, безоговорочные решения «либо—либо», преждевременное завершение дискуссии, настойчивость и стереотипность; тенденцию к излишне «правильной» форме (то есть чрезмерную сосредоточенность на будущем образе организации), они возникают либо благодаря чрезмерному распространению всеобщности, либо благодаря сверхакцентированию конкретных деталей; умственная ограниченность, ограниченность стимулов; стремление избежать неопределенности дополняется суже-
46 Emilio Mira у Lopez, Psychiatry in War (New York: Academy of Medicine, 1943), as
quoted by Liddell, op. cit., 70. — Примеч. автора.
47 Также Frenkel-Brunswik, «Intolerance of ambiguity as an emotional and perceptual
personality variable», Journal of Personality, 1949, 18, 108—143; T.W. Adorno et al., The
Authoritarian Personality (New York: Harper & Brothers, 1950); Ricard Christie and Marie
Jahoda, editors, «Studies in the Scope and Method of «The Authoritarian Personality»
(Glencoe: The Free Press, 1954). — Примеч. автора.


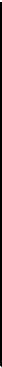





 нием целей, недоступностью опыта, механическим повторением определенного набора действий, а отчасти — произвольным выбором или абсолютизацией тех аспектов реальности, которые должны быть сохранены»48.
нием целей, недоступностью опыта, механическим повторением определенного набора действий, а отчасти — произвольным выбором или абсолютизацией тех аспектов реальности, которые должны быть сохранены»48.
Существенное значение каждого из этих компонентов не может стать очевидным из краткого перечисления; детали изложены в многочисленных публикациях. Но даже из приведенного перечня видно, что понятие «нетерпимости неопределенности» относится к «чрезмерному проявлению» определенного рода восприятия, установок и поведения (на что указывают такие термины, как «чрезмерная исполнительность», «сверхупрощение», «безоговорочность», «сверхпредпочтение» и тому подобное). Нормы, которые осуждаются как «крайности», тем не менее не нужно ограничивать статистическими нормами, наблюдаемыми в данной совокупности личностей, или нормами «функциональной уместности», закрепленными рядом рассматриваемых людей, абстрагируясь от их социального окружения. Из стандартизированных нормативных ожиданий также можно вывести нормы, которые признаются в различных группах, и поведение, которое благодаря первому ряду стандартов может быть рассмотрено как «психологически сверхригидное», может иногда рассматриваться с помощью второго ряда стандартов как адаптивная социальная конформность. Это говорит только о том, что хотя, возможно, существует связь между понятием сверхригидных личностей и понятием социально продуцируемого ритуалистического поведения, они далеко не идентичны.
Бегство
Модель бегства состоит из существенного отрицания как уважаемых когда-то культурных целей, так и социальной практики, направленной на эти цели. Близкое соответствие этому образцу в настоящее время можно найти в описании «проблемных семей» — проще говоря, тех семей, которые не соответствуют нормативным ожиданиям, преобладающим в их социальном окружении49. Дополнительные дан-
48 Также Frenkel-Brunswik, in Christie and Jahoda, op. cit., 247. — Примеч. автора.
49 W. Baldamus and N oel Timms, «The problem family: a sociological approach», British
Journal of Sociology, 1955,6, 318—327. Авторы заканчивают следующими словами: «Хотя
индивидуальные характерные черты структуры личности, кажется, влияют сильнее...
чем мы ожидали, основания девиантных убеждений и ориентации являются отдель
ными детерминантами, что по-прежнему доказывает необходимость более глубоких
исследований природы и значения этого фактора. Таким образом, видно, что с опре
деленными оговорками наиболее крайний случай расстройства и неэффективности в
проблемах семьи граничит с ситуацией «бегства»... возникает отказ от конформности
ные об этом способе реакции находим среди рабочих, у которых возникает состояние психической пассивности в ответ на некоторую заметную степень аномии50.
Тем не менее бегство в целом выглядит как реакция на острую аномию, включая резкий разрыв с привычной и признанной нормативной структурой и с установившимися социальными отношениями, особенно когда попавшие в такие условия люди считают, что это состояние будет продолжаться бесконечно. Как заметил Дюркгейм с характерной для него проницательностью51, подобный разрыв может быть обнаружен в «аномии успеха», когда Фортуна улыбается и многие переходят в гораздо более высокий статус по сравнению с привычным, а не только в «аномии депрессии», когда Фортуна хмурит брови и явно не сулит добра. Большинство подобных аномических состояний часто возникают в тех структурированных ситуациях, которые «освобождают» людей от широкого круга ролевых обязанностей, как, например, в случае «отставки» от работы, навязанной людям без их согласия, и в случае вдовства52.
к установленным ценностям, особенно в отношениях к стандартам поведения». По всем показателям «бегство» выглядит наиболее заметным среди самых низших социальных слоев, как это описал W. Lloyd Warner and Paul S. Lunt, The Social Life of Modern Community (New Haven, Yale University Press, 1941). — Примеч. автора.
50 Ely Chinoy, Automobile Workers and the American Dream (New York: Doubleday &
Company, 1955); и по этому вопросу см. обзор книги: Paul Meadows, American Sociological
Review, 1955, 20, 624. — Примеч. автора.
Как мы отмечали при первом описании типов адаптации, это относится «к ролевому поведению... а не к личности». Из этого, конечно, не следует; что адаптация остается жестко закрепленной в течение жизни человека; напротив, здесь остается место для систематического исследования образцов последовательной смены ролей, которая развивается при определенных условиях. Например, за конформистскими усилиями может последовать ритуалистическая адаптация, а она, в свою очередь, может уступить место ретритизму; другие типы последовательности ролей можно также определить. Интересные исследования, которые начинают обращаться к последовательности ролевыхадаптаций,см.: Leonard Reissman, «Levels of aspiration and social class», American Sociological Review, 1953, 18, 233—242. — Примеч. автора.
51 Как и большинство проницательных открытий в области человеческого пове
дения, это также было «предвосхищено». Например, в кн. Samual Butler «The Way of
All Flesh» автор отмечает: «Несчастья, если они осаждают человека мало-помалу, боль
шинство людей принимают с большим самообладанием, чем большой успех, достиг
нутый один раз в жизни» (глава V). Различие, конечно, в том, что Дюркгейм со вре
менем включил эту проницательную мысль в организованную систему теоретичес
ких идей, которую он завершил их полным осмыслением; Батлер не занимался этим,
но зато он пришел к другим многочисленным, хотя и не связанным между собой глу
боким представлениям о человеке и человеческом обществе. — Примеч. автора.
52 Здесь снова литератор понимает то, что социолог продолжает подробно изучать
и осмысливать. В классическом эссе Charles Lamb, Tlie Superannuated Man автор опи
сывает синдром дезориентации, переживаемый теми, кто освобожден от своей обя-

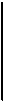



 В исследовании вдовствующих и тех, кто отстранен от работы, Зена С. Блау исследует в деталях обстоятельства, создающие бегство как один из нескольких образцов реакции53. Как она отмечает, и вдовствующие, и «отстраненные» потеряли свою основную роль и до некоторой степени испытывают чувство изоляции. Она считает, что бегство чаще возникает среди одиноких вдов и вдовцов, среди вдов даже чаще, чем среди вдовцов. Бегство проявляется в ностальгии по прошлому и в апатии к настоящему. Люди, склонные к бегству, еще больше сопротивляются вхождению в новые социальные отношения сдругими, чем те люди, которые описываются как «оставленные», поскольку они стремятся продолжать свое апатическое состояние.
В исследовании вдовствующих и тех, кто отстранен от работы, Зена С. Блау исследует в деталях обстоятельства, создающие бегство как один из нескольких образцов реакции53. Как она отмечает, и вдовствующие, и «отстраненные» потеряли свою основную роль и до некоторой степени испытывают чувство изоляции. Она считает, что бегство чаще возникает среди одиноких вдов и вдовцов, среди вдов даже чаще, чем среди вдовцов. Бегство проявляется в ностальгии по прошлому и в апатии к настоящему. Люди, склонные к бегству, еще больше сопротивляются вхождению в новые социальные отношения сдругими, чем те люди, которые описываются как «оставленные», поскольку они стремятся продолжать свое апатическое состояние.
Возможно, поскольку бегство представляет форму девиантного поведения, которое не регистрируется в социальной статистике по-добнотаким бесспорным примерам девиантного поведения, как преступление и правонарушение, и поскольку оно не имеет такого же драматического и слишком очевидного воздействия на функционирование групп как нарушение закона, то социологи (если не психиатры) склонны пренебрегать им как предметом для изучения. Однако синдром бегства был определен еще столетия назад и назван accidie (acedy, acedia, accedia)*, Римская католическая церковь считала его одним из смертных грехов. Как леность и глупость, из-за которых «источники духа иссушаются», равнодушие интересовало теологов начиная со Средних веков. Оно привлекало внимание мужчин и женщин в литературе по крайней мере со времен Ленгленда и Чосера, через Байрона к Олдосу Хаксли и Ребекке Вест. Множество психиатров имели с ним дело в форме апатии, меланхолии или отсутствия чувства радости жизни54. Но социологи уделяют этому синдрому исключительно мало внимания. Все же видно, что эта форма девиантного
зательной роли — быть прикованным к конторке, со всей, возможно, монотонной, но вполне комфортабельной рутиной, которая приводит в порядок каждодневное существование. И он продолжает: «Предусмотрительным людям, состарившимся в активном бизнесе, нелегко, не имея на то своих веских оснований, отказаться от своих привычных занятий сразу, поскольку это было бы опасно для них». Выделенное курсивом обращает внимание на то, что Дюркгейм, Батлер и Лэмб рассматривали как суть вопроса: внезапность изменения статуса и роли. — Примеч. автора.
53 Zena Smith Blau, Old Age: A Study of Change in Status, неопубликованная доктор
ская диссертация по социологии, Columbia University, 1956. — Примеч. автора.
* равнодушие. — Примеч. пер.
54 Среди многих описаний accidie: Langland's/Vera Plowman and Chaucer's «Parson's
Tale»; Burton's Anatomy of Melancholy; эссе Aldous Huxley in On The Margin; Rebecca
West, The Trinking Reed. Further, F.L. Wells, «Social maladjustments: adaptive regression»,
in Carl A. Murchison, ed., Handbook of Social Psyhology, 869 ff. и статья A. Meyerson,
«Anhedonia», American Journal of Psychiatry, 1922, 2, 97—103. — Примеч. автора.
поведения имеет свои социальные предпосылки, так же как свои очевидные социальные последствия, и мы можем ожидать больше социологических исследований на эту тему, похожих на упомянутое исследование Зены Блау.
Остается рассмотреть, можно ли виды политической и организационной апатии, в настоящее время исследуемые социологами, в теоретической форме соотнести с теми социальными силами, которые, согласно этой теории, создают бегство как форму поведения55. Возможно, это лучше изложено в следующей цитате:
«...отрицание норм и целей включает в себя феномен культурной апатии по отношению к стандартам поведения. Качественно различным аспектам последнего состояния придают различные дополнительные значения с помощью таких терминов, как индифферентность, цинизм, моральная усталость, разочарование, отказ от аффектов, оппортунизм. Одним из известных типов апатии является потеря связи с ранее близкими культурными целями. Так происходит, когда продолжительная борьба заканчивается постоянной и, по-видимому, неизбежной фрустрацией. Утрата главных жизненных целей переносит человека в социальный вакуум, лишает его жизнь центрального направления или значения. Другой очень серьезный вид апатии, по-видимому, возникает в условиях большой нормативной сложности и/или острой перемены, когда люди вовлечены на такой путь, на котором сталкиваются с многочисленными противоречивыми нормами и целями, в этих случаях человек становится буквально дезориентированным и деморализованным, неспособным твердо следовать тем нормам, с которыми он согласен. При определенных условиях, еще не понятых, в результате возникает «отказ от ответственности»: обесценивание принципиального поведения, недостаток интереса к поддержанию моральной общности с другими людьми. По-видимому, такая потерянность является одним из основных состояний, из которых возникают некоторые типы тоталитаризма. Люди отказываются от моральной автономии и подчиняются внешней дисциплине56.
Бунт
К настоящему времени должно быть ясно, что рассматриваемая теория считает конфликт между культурно-определенными целями и институциональными нормами одним из источников аномии; она
55 Cf. Bernard Barber, «Mass Apathy» and Voluntary Social Participation in the United States,
неопубликованная докторская диссертация по социологии (Harvard University, 1949);
В. Zawadski and Paul F. Lazarsfeld, «The psychological consequences of unemployment»,
Journal of Social Pssychology, 1935, 6. — Примеч. автора.
56 Robin M. Williams, h. American Society (New York: A.A. Knopf, 1951), 534-535. -
Примеч. автора.





 не считает тождественными конфликт ценностей и аномию57. Напротив, конфликт между нормами, которых придерживаются различные подгруппы в обществе, конечно, часто заканчивается возросшей приверженностью нормам, преобладающим в каждой подгруппе. Деви-антное поведение и разрушение нормативной системы возникает из-за конфликта между культурно-принятыми ценностями и социально структурированными трудностями для тех, кто станет жить согласно этим ценностям. Такое последствие аномии тем не менее может быть только прелюдией к развитию новых норм, и оно является ответом, который мы описали как «бунт» в типологии адаптации.
не считает тождественными конфликт ценностей и аномию57. Напротив, конфликт между нормами, которых придерживаются различные подгруппы в обществе, конечно, часто заканчивается возросшей приверженностью нормам, преобладающим в каждой подгруппе. Деви-антное поведение и разрушение нормативной системы возникает из-за конфликта между культурно-принятыми ценностями и социально структурированными трудностями для тех, кто станет жить согласно этим ценностям. Такое последствие аномии тем не менее может быть только прелюдией к развитию новых норм, и оно является ответом, который мы описали как «бунт» в типологии адаптации.
Когда бунт ограничен относительно небольшими и относительно слабыми элементами в обществе, он создает возможность для формирования подгруппы, отчужденной от остального общества, но объединенной внутри себя. Примерами этого образца являются отчужденные
Дата публикования: 2014-11-04; Прочитано: 244 | Нарушение авторского права страницы | Мы поможем в написании вашей работы!
