 |
Главная Случайная страница Контакты | Мы поможем в написании вашей работы! | |
II Державин, Жуковский, Иванов, Мандельштам 2 страница
|
|
«Во всяком другом поэте, не первобытном, а уже поэте-художнике, встречаешь с естественным его вдохновением и работу искусства. В Гомере этого искусства нет. [...] Переводя Гомера, и в особенности Одиссею, не далеко уйдешь, если займешься фактурою каждого стиха отдельно, ибо у него, то есть у Гомера, нет отдельно-разительных стихов... И в выборе слов надлежит наблюдать особенного рода осторожность: часто самое поэтическое, живописное, заносчивое слово потому именно и не годится для
Гомера»[1].
Как человек своего времени, Жуковский описывает еще-нелитературность Гомера в терминах романтической концепции «первобытного» поэта как абсолютно наивного и безыскусного явления природы; но сейчас нас занимает не это. сопоставим с программой Жуковского его конкретную поэтическую практику. Крайняя изысканность двусоставных эпитетов, вводимых и там, где в подлиннике не было ничего подобного, — «звонко-пространные сени», «пустынно-соленое море» и т. д. и т. п.[2], — это как раз та поэтичность. слова, равнозначная его
«заносчивости», которая отрицается для самого Гомера. «Жуковский самым резким образом опровергает свое же положение, что при переводе,,Одиссеи” надо избегать всего, имеющего вид новизны, всякой украшенности», — замечает в этой связи вдумчивый исследователь русских переводов Гомера констатация верна, только не стоило высказывать ее в тоне укора поэту. На самом деле Жуковский вполне адекватно дал нам то, что он мог и должен был дать, — романтическое видение Гомера как простоты по ту сторону сложности, наивности по ту сторону осуществившей и исчерпавшей себя изощренности. Философию воскрешения *первобытного* у романтиков выразил Клейст, заметив, что мы не можем вернуться в потерянный рай, но, удаляясь от него, имеем шанс приблизиться к нему с противоположной стороны, поскольку земля кругла.
Жуковский этого не декларировал, но делал именно это. Его Гомер фактически не предшествует Вергилию и всей вообще европейской поэзии, а является после нее, как ее преодоление и снятие — не историческое прошлое, а утопическое будущее, то, чего еще никогда не было. Дух утопии, объективно присутствовавший в работе Жуковского над Гомером, вдохновлявший эту работу, верно схвачен в статье Гоголя «Об Одиссее, переводимой Жуковским»[3], каковы бы ни были ее явные слабости5. А это значит, что и совершенство гомеровского эпоса предстает в данной связи вещей как бы разновидностью несовершенства — невоплощенности, требующей воплощения.
Несовершенство оригинала требовалось, следовательно, для того, чтобы оставалось место для нового творческого порыва к совершенству, которое предуказано оригиналом, но которого еще нет на свете. Похоже, что это довольно широкое явление, касающееся не только поэтического перевода. Наилучшая вокальная музыка, как правило, вдохновлялась словесным материалом, который находится примерно на уровне «Зимнего пути Вильгельма Мюллера» — поэтического цикла, так кстати по- служившего Шуберту: ей нужны стихи, достаточно подлинные, чтобы вдохновлять, но не настолько сильные, чтобы сполна нести в себе всю свою музыку и этим делать всякую иную музыку i; своем присутствии просто излишней. Параллель между работой Жуковского как переводчика литературного текста и работой над этим текстом композитора обретает неожиданную конкретность, стоит нам вспомнить, как много музыки родилось в связи с вышеупомянутой «Ундиной» де Ламотт Фуке (оперы Э.Т. -А. Гофмана, Х. -Ф. Гиршнера и А. Лорцинга, а также балет, поставленный в Берлине в 1836 году).
Не будем, однако, делать чересчур широкие обобщения. для нас вполне достаточно отметить закономерность, неизбежную не то чтобы для мастера стихотворного перевода «вообще», — существует ли такой загадочный персонаж и что о нем можно сказать? — а для того специального типа поэтического переводчика, к которому принадлежал Жуковский.
II
«Переводчик теряет собственную личность, — писал Гоголь в «Выбранных местах из переписки с друзьями», — но Жуковский показал ее больше всех наших поэтов. Пробежав оглавление стихотворений его, видишь: одно взято из Шиллера, другое из Уланда, третье у Вальтер Скотта, четвертое у Байрона, и все — вернейший сколок, слово в слово, личность каждого поэта удержана, негде было и высунуться самому переводчику; но когда прочтешь несколько стихотворений вдруг и спросишь себя: чьи стихотворения читал? — не предстанет перед глаза твои ни Шиллер, ни Уланд, ни Вальтер Скотт, но поэт, от них всех отдельный, достойный поместиться не у ног их, но сесть с ними рядом, как равный с равными. Каким образом сквозь личности всех поэтов пронеслась его собственная личность — это загадка, но она так и видится всем. Нет русского, который бы не составил себе из самих же произведений Жуковского верного портрета самой души его. [...] Переводя, производил он переводами такое действие, как самобытный и самоцветный поэт[4].
Есть все основания отнестись к такой характеристике недоверчиво. Ее тон — это тон похвального слова, панегирика, и притом такого, какими слишком часто бывают панегирики Гоголя, вообще его витийственные пассажи, особенно в последней его книге, которую столько корили за риторичность: все безоговорочно, безудержно, заливисто-громогласно, напор слов, выбранных не без манерности, мешает трезво оглядеться. Против гоголевских рассуждений о переводах Жуковского можно сказать немало, а в пользу их — только одно: что они, в общем, справедливы.
В самом деле, никто не будет отрицать, что переводы Жуковского суть, как правило, именно переводы, и притом первые в истории русской литературы: не.переложения, не.подражания, связанные с подлинником только топикой и больше ничем, а попытки схватить и передать в русском стихе специфическую атмосферу иноязычного стихотворения..Личность каждого поэта удержана, — утверждает Гоголь; можно возразить ему, что есть исключения, но господствующая тенденция действительно такова, и она была в ту пору новостью. Восемнадцатый век не знал ничего подобного, и притом не только в России, но и в Европе. «Жуковский, — отмечает современный историк перевода, — [...] создал в России поэтический перевод как законный и в принципе равноправный с другими жанр литературы. [...] Его умение принимать чуть ли не любые,,лики” и жить в них, чувствуя себя совершенно свободно, — все это до сих пор не превзойдено никем. Жуковский, как никто, может,,прятаться” в переводимых им поэтах»[5]. Точности на разных уровнях, и смысловой, и художественной, но и самой простой, дословной, «буквалистской», у Жуковского подчас поразительно много.
Царица сидит высоко и светло
На вечно-незыблемом троне... —
ЭТИ отличные русские стихи (чего стоит неожиданное «сидит высоко и светло», где смелость сочетания двух наречий ограждена созвучием общего для обоих ударного гласного!) слово в слово передают шиллеровское описание альпийской вершины:
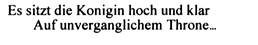
Для довершения чуда почти полностью сохранен порядок слов, те же самые слова вынесены в рифму. При желании можно принести целый ряд аналогичных примеров. В конце прошлого столетия серьезный исследователь говорил о переводах Жуковского в выражениях, не столь уж отличных от тех, какие употреблял Гоголь: «...дословность в передаче мысли автора, точное воспроизведение стихотворной формы подлинника и самоограничение в смысле безграничного уважения к подлиннику»[6], и оценка эта сочувственно цитируется в совсем недавней книге о Жуковском[7] .
И уж подавно никто не станет спорить, что Жуковский «показал», по гоголевскому выражению, свою личность «больше всех наших поэтов» — предшествовавших и современных ему; что его авторская индивидуальность имеет исключительно развитой и артикулированный характер. Особенно важно, что это уже не просто индивидуальность как характерность, но индивидуальность как субъективность в самом полном смысле слова, в отличие от простой характерности становящаяся для себя прозрачной в акте непрерывной рефлексии, и рефлексии именно личной[8]. Рефлексия эта всегда может быть эксплицирована — моралистико-философские рассуждения, столь характерные для стихов, статей и писем Жуковского, суть документы рефлексирующего взгляда на жизнь, а критические разборы чужих стихов, например в стихотворных посланиях, свидетельствуют, как обдумывал он собственные стихи; но, с другой стороны, для своей действительности она и не нуждается ни в какой экспликации, ибо растворена во всем, совпадая с существом творчества Жуковского. Личное с огромной силой дано не только *в себе, как факт, но и «для себя», как самосознание.
Напротив, Державин мог быть сколь угодно могучей индивидуальностью, но его индивидуальность — почти до конца характерность, объективный факт характерности, который лишь в превращенном виде, в приспособлении к безличным и внешним категориям мог войти в авторское сознание, по сути дела безразличное для поэзии как таковой[9]. Лишь когда романтизм снял жатву руссоистской духовной революции, мог явиться Жуковский — образцовый пример того, как биография поэта явным для него самого и современников образом соотносится с его поэзией уже не через отдельные события, дающие тему отдельным стихотворениям (как в стихах того же Державина «На смерть Катерины Яковлевны...»), но в качестве общей атмосферы, которой окрашено решительно все. Все — значит, и переводы в том числе. Как сказал он сам:
И для меня в то время было
Жизнь и Поэзия одно.
В состав его творчества, оригинального и переводного, вошло специфическое качество его взаимоотношений с людьми, его резиньяции, его меланхолии, его религиозности и т. п.; так угадывается, например, не только из специальных намеков, но из интонации как таковой нравственно-психологическая структура романа с Машей Протасовой. И особенно важно, что это знал сам поэт и знали его современники. Молодой Белинский передает в.Литературных мечтаниях ходячие толки: «...односторонняя мечтательность, бывшая, как говорят, следствием обстоятельств его жизни, — вот характеристика сочинений Жуковского»[10]. Когда Жуковский переводит английского или немецкого поэта, вникая в чуждые имена и образы, в иноязычные языковые и стиховые формы, читатель продолжает ждать от нее о личной исповеди — и правильно поступает. В этом и парадокс.
Мы возвращаемся к пассажу Гоголя. Если Гоголя можно в чем-то упрекнуть, то лишь в одном: что он удовлетворился самой парадоксальностью парадокса и этим низвел свой же собственный вопрос: «Каким образом сквозь личности всех поэтов пронеслась его собственная личность?» — до степени риторического вопроса, на который отвечать не полагается. А ведь это реальный вопрос, и если на него невозможно дать исчерпывающий думать над ним нужно.
Правда, парадокс Жуковского-переводчика — гений переимчивости и гений субъективности в одном лице — указывает на п арадоксы более общего свойства. Таковых по меньшей мере два.
Один из них — это парадокс романтизма как такового. Каждому известно, что романтический поэт заявляет себя личностью, и личностью чуть ли не самодостаточной, с такой эмфазой, с какой никто и никогда этого еще не делал; но именно романтический поэт, столь резко чувствующий «свое», исключительность «своего», открывает и делает особой поэтической тем «чужое как таковое — «местный колорит» определенной эпохи или определенного народа, специфическую своеобычность чужого голоса, будь то безличная интонация фольклорного придания или индивидуальный голос другого поэта, отделенного хронологическими и языковыми барьерами.
Например, такой немецкий романтик, как Клеменс Брентано, поэт личный до надрыва, до идиосинкразии, до юродства, не собирал вместе с Арнимом подлинные народные песни, составившие знаменитый сборник «Волшебный рог мальчика», но необычайно широко вводил в собственное творчество, т. е. в своюлитературную исповедь, чужое — отголоски тех же песен или переводы иноязычных текстов, подчас остро специфических, например причудливых итальянских сказок, причем *чужое и свое* соединяются в самых неожиданных и непредсказуемых пропорциях.
Казалось бы, романтизм берет человека как нагую душу, нагую субъективность, воинственно противопоставленную конвенциональным бытовым формам[11] однако он же пробуждает новый, небывалый интерес к чужому быту, к характерности конвенционального, увиденного извне — причем именно взгляд извне делает возможным имагинативное слияние через барьер различия. По отношению к субъективности романтика чужое — все, в том числе и быт своего же народа, нет ничего, что бы не было «чужим» однако на то оно и «чужое», чтобы в него вживаться. для усилия вживания впервые расчищено место. И поэтому романтизм — великая, может быть величайшая, эпоха в истории художественного перевода: достаточно вспомнить работу Августа Шлегеля над театром Шекспира и Кальдерона и работу Шлейермахера над диалогами Платона.
Немецкий романтизм ставит в порядок дня неизвестную прежде задачу: средствами художественного перевода сделать доступным для своих читателей, то есть образованных людей романтической культуры, более или менее полный круг шедевров поэзии всех времен и народов — Данте и Тассо, «Махабхарату» и «.Шахнаме» (то, что Рюккерт переводил обе упомянутые восточные поэмы, имеет к Жуковскому самое прямое отношение). Но и в Англии Колридж начал с того, что перевел шиллеровского «Валленштейна». даже во Франции, где художественный перевод всегда стоял дальше от центра литературы, Жерар де Нерваль переводил «Фауста», ту самую «Ленору» Бюргера, которая вызвала знаменитое состязание между Жуковским и Катениным, и другие произведения немецкой поэзии. Жуковский как поэт, в руках которого именно переводческая практика была орудием эксперимента в родной литературе, —
не изолированное или локальное явление, а равноправный участник всеевропейского культурного переворота. Во вдохновлявшей его «тоске по мировой культуре», как по другому поводу выразился русский поэт нашего столетия, не было ничего провинциального.
Явление романтического художественного перевода было подготовлено предромантизмом ХVIII века, впервые открывшим плюрализм культурных традиций: Макферсоновы «Фрагменты древней поэзии, собранные в горах Шотландии» (1760), «Фингал» (1762), «Темора» (1763), также «Замок Отранто» (1764) Уолпола — все эти сенсации, с минимальной дистанцией во времени обрушивавшиеся на голову европейского читателя, свидетельствовали о пробуждении вкуса к «варварскому», «готическому», принципиально антиклассическому, который еще готов был довольствоваться подделками, но уже осознавал себя. Оно было подготовлено универсализмом веймарской классики, породившим раздумья В. фон Гумбольдта о переводе как искусстве сохранить «чужое», убрав помеху «чуждого», и на своем пределе вылившемся в чеканный термин-императив, который первый раз появляется у позднего Гёте — «мировая литература». Оно тем и отличалось от известного более старым культурам перевода-подражания, что его драматическая пружина, его «интрига», его «изюминка» — контраст и встреча «своего». и «чужого»: встреча именно через контраст, который настолько восчувствован, что и встреча происходит под знаком собственной невозможности.
«Чужое», сознаваемое и переживаемое в своем качестве «чужого», на поверхности предстает как экзотика. Если позволить себе не совсем ловкий каламбур, можно сказать, что экзотика есть экзотерика романтизма, в частности романтического перевода. О ней не очень интересно говорить, но несколько слов
нужно сказать здесь же. Баллада «Замок Смальгольм, или Иванов вечер» — одна из самых внешних удач Жуковского. Это стихотворение во всех смыслах блестящее — также и в том смысле, который имеет в виду пословица «не все то золото, что блестит». Его чуть навязчивый ритм был создан, чтобы остаться у всех на слуху и плодить пародии вроде «Югельского барона», приписываемого Лермонтову («до рассвета поднявшись, перо очинил...»). Возбуждающее действие похоже на то, которое оказывали на поколения читателей символистской лирики строки Вяч. Иванова: «Бурно ринулась Мэнада, // Словно лань, словно лань...» (ср. у Блока: «Мы пойдем на,,Зобеиду”, // Верно дрянь, верно дрянь...»). И у Жуковского, и у Иванова есть стихи куда существеннее, но мало таких шумных, созданных для мгновенного успеха, через несколько поколений становящегося непонятным. А потому «Замок Смальгольм» — подходящий пример, чтобы усмотреть функциональное назначение экзотики. Герой сразу введен как е знаменитый Смальгольмский бароне (ну, кто же не знает Смальгольмского барона?..); а в рифму барону — Бротерстон. И дальше идет в том же роде.
Анкрамморския битвы барон не видал,
Где потоками кровь их лилась,
Где на Эверса грозно Боклю напирал,
Где за родину бился Дуглас...
Достаточно ли сказать, что это самоцельная поэзия звучного имени? Совершенно недостаточно. Обостренная чувствительность Жуковского к фонике иноязычных имен засвидетельствована обилием случаев, когда он эти имена менял в переводе сравнительно с оригиналом[12] и все же не в фонике, не в одной фонике дело. Вспомним для сравнения знаменитую строку из 1 акта «Федры» Расина, на свой, классицистический лад извлекающую максимум возможностей из поэтической силы имени:
La fille de Minos et de Pasiphae[13]
На первый взгляд кажется, будто у Жуковского — то же самое, что у Расина; но это лишь на первый взгляд. Разница вот в чем: читатель, предполагаемый поэзией Расина, знал назубок, кто такие Минос, Пасифая и дочь их. Звуки звуками, но важно прежде всего интеллектуальное удовлетворение, доставляемое ясностью, опознаваемостью названного, прозрачностью связей
— Минос был врагом и губил афинских юношей, отдавая на съедение Минотавру, Пасифая прославилась чудовищной страстью, вот и дочь их окажется врагиней, губительницей афинского юноши Ипполита, примером предосудительной страсти. Совсем иначе обстоит дело с шотландской и отчасти английской топонимикой и ономастикой в романтическом переводе Жуковского. Каждое имя читатель слышит в первый (а равно и в последний) раз в жизни[14], но интонация баллады энергично внушает ему, что в том, ечужоме мире они, должно быть, известны каждому ребенку, раз и Смальгольмский барон «знаменитый», и Анкрамморская битва — не какая-нибудь, а та самая, в которой участвовали все эти персонажи: Эверс, Боклю, Дуглас, судя по всему, настолько всем памятные, что их достаточно просто назвать... Большей противоположности разъясняющему, растолковывающему способу вводить действующих лиц в классицистическом эпосе и не придумаешь.
Конечно, Жуковский следовал за Вальтером Скоттом, а Вальтер Скотт — за народной традицией исторической баллады, рождавшейся по свежим следам события, но весь вопрос в том, iачем они это делали и что они при таком следовании имели в предмете; они оба, но Жуковский — особенно, просто потому, что он писал для читателя, для которого Анкрамморская битва географически, этнографически, исторически была несравнимо дальше. У него соль в том, что мы сразу, без малейшего перехода, из.своего перемещаемся в «чужое», и в результате неизвестное, так и не став известным, уже имеет все права самоочевидности, так что читатель в самом буквальном смысле слова поставлен перед ним, как перед совершившимся фактом. В этом — суть романтического «местного колорита». Упразднена тысячелетняя иерархия, которая предполагала, что одни предметы, как имена Миноса и Пасифаи, подлежат обязательному знанию заранее, другие преподаются автором с невидимой указкой в руках по ходу изложения, а третьи неизвестны и, следовательно, не существуют, или хотя бы не совсем существуют, то есть несущественны (а таково все *варварское*).
дух захватывает от внезапного, пронзительного ощущения, что есть целая жизнь со всей полнотой своих связей, которой мы не знаем, но которая сама знает о себе, — и этого достаточно. Экзотика могла — чего у Жуковского никогда не бывает — вырождаться в нечто декоративное. Но не по этому вырождению должно о ней судить. Пока романтические открытия еще оставались открытиями, в их соседстве сама сенсационность экзотики подобна взрывчатой сенсационности секрета. Мы взяты куда-то, где, вообще говоря, находиться не можем. Мы знать не знаем, кто такие Боклю и Дуглас, однако разглядываем, подглядываем мир, где эти имена естественно с полной непринужденностью бросить в придаточном предложении. Ибо экзотика — не просто далекое. Экзотика — недостижимое. Вернее, экзотика, в той мере, в которой она есть не более чем экзотика, — это иллюзия достигнутого недостижимого. С этим связана присущая ей известная мера поверхностности, о которой говорилось выше. Но и будучи иллюзией, она указывает в сторону недостижимого, несет в себе неослабленный императив недостижимого, который действует и тогда, или особенно тогда, когда об экзотике говорить уже невозможно.
Жуковский написал однажды: *Там не будет вечно здесь*. Это может быть истинным для метафизики Жуковского, его житейской мудрости, его моральной философии. Но в системе его поэтики верно как раз противоположное — «там» должно предстать как «здесь» дело такого претворения поэзия; и они становится одновременно знаком, символом претворения, если это поэтический перевод. В самом деле, заново творимое русское стихотворение, которое должно принять черты, заданные уже существующим образцом иноязычной поэзии, а притом еще сделать его чуждость, отдаленность, знаковость своей темой, но так, чтобы эта тема помогала ему стать именно русским стихотворением; послушание оригиналу, которое должно высвободить субъективность романтического поэта и оказаться средством его личной исповеди; эта невозможная, но в некотором смысле решенная лучшими переводами Жуковского задача предполагает не что иное, как очень зримый, наглядный обмен признаками между «я» и «не-я», между «своим» и «чужим», между близью и такой далью, которая хотя и остается в пределах земной истории и географии, а значит, не тождественна метафизическому «там», однако для воображения сливается с ним, как голубизна горизонта сливается с небом.
Здесь пора вспомнить, что мы упоминали выше два общих нарадокса, на фоне которых мы обещали рассматривать парадоксальность частного случая Жуковского-переводчика. Первый парадокс, стало быть, — парадокс Романтизма. Но мы уже неприметно перешли ко второму — парадоксу поэтического перевода вообще, как он существует со времен романтизма и до наших дней. О нем здесь не место говорить специально, а в общих чертах все ясно: иноязычное стихотворение, становящееся фактом родной литературы, родной культуры, и все же удерживающее приметы своей изначальной принадлежности другой почве, — то очень занимательный пример тождества в различии и различия в тождестве. Как раз здесь, однако, парадоксалистские формулы, формулы поверхностно усвоенной диалектики особенно опасны и могут блокировать не только научный подход к проблеме, настоящую диалектику, не перестающую задавать вопросы и оспаривать самое же себя, но самый обычный здравый смысл и чувство реальности.
В вопросах перевода очень легко декларировать пожелания, никого ни к чему не обязывающие, потому что никого не задевающие. Прописные истины: перевод должен быть как можно ближе к подлиннику, как можно вернее ему, не смеет отходить от его смысла и формы, но в то же время обязан не менее строгой верностью своему языку, своей культуре и, сверх всего и прежде всего, сущности поэзии, предполагающей творческую свободу, — а где среди коллизии перечисленных обязательств остается еще место для свободы? На самом деле даже легко всеми решаемый вопрос о предосудительности буквализма, о необходимости следовать не букве, а духу подлинника совсем не так уж легок, если вспомнить, что поэзия постольку и лишь постольку есть поэзия, поскольку в ней «буква» и «дух» не разделимы даже мысленно... И вообще, что такое художественный перевод, как перевести или перенести поэтическое целое из одной языковой стихии в другую, коль скоро стихия эта — для поэтического целого не внешняя среда, но самая его субстанция? Вот когда перевод мыслился по-старому, как подражание, то есть создание нового стихотворения на заданную подлинником тему, тогда все было ясно; но романтизм поставил вопрос о характерности подлинника, индивидуальной и национальной. для начала характерность подлинника как подлинника иноязычного заведомо включает чуждость языку, на который его переводят; как избежать насилия либо над подлинником, либо над языком? Если эти детские вопросы перестают восприниматься как реальные, то на фоне чересчур беспроблемных общих мест теории перевода парадокс совмещения острой внимательности к подлиннику и яркой субъективности, который виден в лучших переводах Жуковского, смазывается, теряется, исключение предстает чуть ли не как норма. Но это неразумно.
При более реалистическом взгляде на вещи нам приходится исходить из того, что какой бы ни была упомянутая выше диалектика взаимопереходов «своего» и «чужого», силой вещей субъективность переводчика имеет почти физическое свойство вытеснять, выталкивать присутствие оригинала. Ей просто некуда больше распространяться. Каким же образом в случае Жуковского эта самая субъективность умудряется добыть себе так много простора при столь малом количестве актов агрессии против оригинала, мало того, при такой чуткости к нему? Недаром Гоголь говорил — 4загадка. И здесь самое время вспомнить предпочтение, которое переводческая муза Жуковского склонна была отдавать вещам недовоплощенным, не совсем сбывшимся, при всей значительности ущербным — как романтическая почесть Фридриха де Ламотт Фуке. С таким оригиналом у субъективности переводчика складываются иные отношения. Он не столько дан, сколько задан, не столько ограничивает эту субъективность своим полновесным присутствием, сколько, напротив, раздразнивает ее, выманивает и указывает путь. Верность ему — это верность указанному им направлению, точность направления, и точность эта в случае той же «Ундины» поразительно велика; а уж пройти путь, и пройти впервые, субъективность должна сама.
для контраста представим себе иные, крайние случаи позиции переводчика: или — или, либо самодержавная субъективность, либо вассальная служба при оригинале. Переводчик того типа, сравнительно тривиальным представителем которого был Бальмонт, а совсем не тривиальным — Пастернак, то есть поэт, вдохновляющийся иноязычной поэзией совершенно так же, как, скажем, явлением природы, безбоязненно приступает к шедеврам мировой литературы. Они не стеснят его субъективности, потому что ее не стеснит ничто. В том смысле, в котором пастернаковское мирозданье — лишь страсти разряды, человеческим сердцем накопленной, его переводы — то же самое; и тут уже чем сильнее источник энергии, тем лучше — «Фауст», или «Гамлет», или самые «абсолютные» лирические строки Гёте и Верлена. И напротив, если переводчик принимает чисто служебную роль, отрекаясь от своей (как правило, не очень сильной) субъективности, ему тоже прямая выгода выбирать первоклассные шедевры; у слуги, как повествует средневековая легенда о святом Христофоре, своя гордость — служить сильнейшему. Поэтому Гнедич перевел «Илиаду», употребив все силы на то, чтобы дать самое поэму, а не голубую дымку, по дальности окутывающую ее для наших глаз, как это сделал Жуковский с «Одиссеей». (Самое слово «перевод» имеет здесь иной смысл, чем в приложении к *Одиссее* Жуковского. А. Н. Егунов был совершенно прав, когда со всей силой указал на это в своей образцовой книге о русских переводах Гомера, ошибкой был лишь тон порицания Жуковскому — Жуковский и Гнедич были в разном положении и ставили себе разные цели.) Поэтому же Лозинский перевел — менее удачно, но все же с непревзойденной основательностью — «Божественную комедию». В этих случаях несбывшимся, невоплощенным и нуждающимся в воплощении оказывается, напротив, поэтическая субъективность переводчика. Что был бы Гнедич без *Илиады*? Кто помнит об оригинальных стихах Лозинского? При этом характерно, что Пастернак выбрал среди пантеона гениев европейской литературы самого переводимого — Шекспира, а Лозинский самого непереводимого — Данте. (Утверждения такого рода трудно доказать, но ведь факт, что ни один из необычайно многих немецких предромантических, романтических, позднеромантических и симнолистских переводов «Божественной комедии» — от Л. Бахеншванца в 1767—1 769 годах до Стефана Георге в 1912-м и Рудольфа Борхарта в 1930 году — все же не стал таким явлением немецкой поэзии, каким, безусловно, стал шлегелевский Шекспир, и это не случайно.) Поэт, который лишь на периферии своей жизни в поэзии выступает как переводчик, оставаясь и тут по сути своей тем же поэтом, выбирает то, что даст больше всего вдохновения. Переводчик, лишь в переводческом самоотвержении впервые обретающий себя как поэта, выбирает то, что возьмет больше всего труда. Оба правы: только вдохновение оправдает первого, только труд — второго.
Но Жуковский не был ни первым, ни вторым, его случай был сложнее. Чересчур великий шедевр в качестве «преднаходимого», не им сотворенного поставил бы его в странное положение; он не мог бы ни оторваться вовсе от текста оригинала, ни пойти к нему в добровольную и безусловную кабалу. Поэтому у него были свои причины вдохновляться бароном Фуке или даже бароном Цедлицем, одновременно измьишляя Гомера, какого никогда не было, благоухающего всеми влажными веяниям и романтической ностальгии и патриархального русского уюта, и хранить куда больше верности духу «Ундины», чем духу баллад Шиллера.
III
Что делал Жуковский специально с Шиллером, давно известно и почти вошло в поговорку[15].
Общую ситуацию можно считать выясненной. Чтобы взглянуть на нее более конкретно, рассмотрим один частный пример — «Рыцаря Тогенбурга». Пример этот для начала возвращает нас к тому, о чем только что шла речь: баллада Шиллера, написанная в 1797 году, занимает достаточно скромное, почти незаметное место среди стихотворений немецкого поэта, между тем как баллада Жуковского, написанная в 1818 году, получила ж’ только в творчестве Жуковского, но и во всем составе русской культуры место очень важное.
Роль того и другого стихотворения в соответствующей национальной традиции различается не только по масштабу, но и по другим признакам. Русские читатели воспринимали «Рыцаря Тогенбурга» как прямое обращение к их эмоции, как текст, предназначенный трогать и потрясать и принципиально открытый для проецирования на данную в нем картину сугубо личного опыта ныне живущих людей (начиная с самого переводчика). Насколько можно судить, у немецких читателей такого впечатления не возникало. В России герой баллады мог служить предметом обсуждения как идеал, и Белинский протестует против негов 1843 году именно как против идеала: «Как жаль, что Шиллер воскресил его не совсем в пору да вовремя![16] Но это недоразумение: Шиллер ничего подобного не делал. Он не воскрешала своего рыцаря, то есть «воскрешал» его ничуть не больше, чем автор любого исторического романа, например Вальтер Скотт, «воскрешает» любого характерного представителя минувших времен. Баллада Шиллера живет настроением исторического анекдота — конечно, в старом, вполне почтенном смысле этого слова. Ее цель — не.воскрешение, а воссоздание, и обращается она не к чувству, а к воображению; ее интерес — характерность и конкретность, холодноватая точность детали. Ее герой — не вневременный психологический тип, и уж подавно не идеал, а колоритный персонаж истории нравов. У Жуковского все по-другому.
Вот как начинается немецкое стихотворение:
Дата публикования: 2014-11-18; Прочитано: 212 | Нарушение авторского права страницы | Мы поможем в написании вашей работы!
