 |
Главная Случайная страница Контакты | Мы поможем в написании вашей работы! | |
Метафора и символ
|
|
Для начинающего филолога разграничение метафоры и символа всегда представляет сложность, хотя по сути это разные вещи. Общая теория символа достаточно сложна, и едва ли здесь имеет смысл излагать ее сколь-нибудь подробно[14]. Обратим внимание только на некоторые особенности.
Символ всегда имеет личностный или общественный смысл, он как бы является частью того, что им выражается[15]. Строго говоря, символ вообще не является поэтической фигурой, он всегда выходит за пределы эстетики. Так, крест для верующего христианина – это не просто знак, но выражение причастности «тому» кресту, пути Христову. Именно поэтому фанатично верующий человек не снимет с себя креста даже под страхом смерти. Символ не обязательно должен быть общезначимым, скажем, для женщины, потерявшей любимого человека, символизироваться может какая-то его вещь. Она не просто напоминает о любимом, она как бы является его продолжением. Кроме того, символ лишен четкого и конкретного значения, его значение бесконечно расширяется. Попробуйте однозначно ответить на вопрос, что означает крест, и вы поймете, что это невозможно.
Метафора же, напротив, функционирует именно как знак чего-либо, более конкретный и экзистенциально менее значимый. Люди могут идти на жертвы и на смерть ради символа (скажем, спасая во время битвы знамя армии, поскольку оно есть символ воинской чести), но никто не будет умирать ради метафоры. Метафора – это поэтическая риторическая фигура, имеющая совершенно другой смысл и другую систему ценностей. Она позволяет по-новому взглянуть на мир, но «продолжением мира» не является. Часто метафора имеет или однозначное толкование (скажем, «лиса» в метафорическом смысле – это однозначно «хитрость»), или круг значений более или менее определен.
В реальности, конечно, границы метафоры и символа не столь отчетливы, есть метафоры, тяготеющие к символичности, и символы, тяготеющие к аллегоричности. Художественное слово вообще потенциально символично, не случайно Пушкин назвал свое наследие «душой в заветной лире», то есть стихи – это и есть душа поэта. Но далеко не все метафоры символизируются, хотя такое и возможно. Например, лермонтовский парус, ассоциирующийся с метаниями одинокого человека, – метафора с глубоким символическим значением. Однако «в чистом виде» метафора и символ – понятия разные.
Контекстно-дискурсная группа (тропы, основанные на ситуативной связи)
В основании этих тропов лежат совсем другие механизмы. Никакого сходства между двумя понятиями тут нет, просто в какой-то ситуации они оказываются рядом. Тропы этой группы невозможно представить сравнением, поскольку общего признака (основания) для сравнения у них нет. Чтобы понять логику переноса, нужно знать или контекст, или всю ситуацию говорения (дискурс). Общая структурная схема этих тропов будет совершенно иной. Если в основе сравнительно-метафорической группы лежит схема «А похоже на В по основанию С» (например, женщина похожа на розу по основанию красоты), допускающая разные языковые вариации (А как В, А есть В, А вместо В), то схема тропов контекстно-дискурсной группы будет совершенно иной: А оказывается плотно связанным с В благодаря общей (смежной) ситуации С. Именно внутри этой ситуации возможно употребление А вместо В, за ее пределами оно невозможно. Можно сказать «Я люблю Шопена» (музыку Шопена), если из ситуации ясно, что речь идет о его музыке, но за пределами этой ситуации смысл фразы радикально меняется. Можно сказать «Я Некрасова в кабинете оставил», если ситуация подсказывает, что речь идет о книге, написанной Некрасовым, но за пределами этой ситуации фраза имеет совсем другой смысл.
Метонимия – троп, основанный на общей ситуации, которая может в реальности быть очень разной: общее место («весь автобус захохотал»), форма и содержание («я выпил уже две чашки»), имя и то, что им называется («я выхожу на Горького» (вместо «я выхожу на улице имени Горького»), автор и его произведение («Пушкин стоит на верхней полке») и т. д. Как правило, метонимия более привязана к контексту, чем метафора, более зависима от традиции употребления. Особенно это касается так называемых эллиптических метонимий, то есть образованных путем пропуска части текста. Скажем, «Я люблю Достоевского» вместо «Я люблю произведения Достоевского». Даже в близких ситуациях в одном случае фраза покажется нормальной, в другом – нарочито ошибочной. Возможно сказать: «Я люблю Пушкина» (стихи Пушкина). Но абсурдно: «В Пушкине хорошо изображена любовь». Метафора таких границ словоупотребления, как правило, не имеет.
Синекдоха. Особым видом метонимии принято считать синекдоху. Это метонимия, основанная на отношениях целого и части:
«Я занял очередь за красной сумкой»;
«Здорово, борода!»;
«Этот политик совершенно изжил себя, ему остается надеяться только на помощь штыков».
В отличие от метафоры, синекдоха имеет логические ограничения употребления, что, как мы уже говорили, вообще свойственно для метонимий. Например, Н. Д. Арутюнова справедливо замечает: «Синекдоха неупотребительна <…> в бытийных предложениях и их эквивалентах, вводящих некоторый предмет в мир повествования. Так, нельзя начать рассказ словами «Жила-была (одна) красная шапочка». Такое употребление воспринимается как олицетворение некоторого предмета, а не как обозначение лица» [16].
Кроме того, для синекдохи не характерна предикативность (то есть она редко встречается в позиции сказуемого). Если же это происходит, синекдоха почти всегда приобретает метафорический оттенок, становясь характеристикой героя.
Ср., например:
«По дороге брели сапоги и лапти» (имеются в виду люди в сапогах и лаптях). Здесь чистая синекдоха. Но:
«Да он же просто лапоть!» (невежественный человек). Фраза стала метафорической, «лапоть» стал не знаком человека в лаптях, а характеристикой невежественности.
Ирония – это троп, образованный за счет того, что сказанная фраза в данном контексте или благодаря данной интонации означает свою противоположность или, во всяком случае, теряет однозначность. Если мы слушаем не очень умную речь, мы можем сказать с определенной интонацией: «Какое это было замечательное и умное выступление!», и нас поймут так, что мы выступлением недовольны. В живой речи ирония чаще всего подчеркивается:
– характерной интонацией,
– изменением порядка слов (в русском языке фраза «Мне это очень нужно» будет воспринята в прямом смысле, а «Очень мне это нужно» – в ироническом);
– заведомым искажением или неточным употреблением грамматических форм: «Распрекраснейшая вы наша!», «Надо было сказать еще красимше».
Существуют и другие возможности показать слушателям или читателям, что вы иронизируете. Тонкая ирония – обязательный атрибут умелого писателя. Ирония может возникать также за счет использования необходимого контекста. Вспомним известный анекдот:
«Мужчина назвал женщину «коровой», и женщина подала на него в суд. Судья принял решение обязать мужчину публично извиниться. Перед тем, как извиниться, мужчина спросил у судьи:
– Если я назвал мадам «коровой», то это оскорбление. А если я корову назову «мадам», это будет оскорбление?
– Нет, – ответил судья.
– Приношу свои извинения, мадам».
Как видим, убийственная ирония была создана исключительно за счет контекста.
Иронию как троп следует различать от иронии как философского понятия. Философское значение иронии огромно, оно связано с центром человеческого существования, с ощущением относительности всякого знания и всех ценностей, с их потенциальной ограниченностью. Такое понимание иронии, восходящее к Сократу, чрезвычайно важно для человеческой культуры. Эта всеобщая, тотальная ирония стала одной из основ романтизма (так называемая «романтическая ирония») и нашла свое философское обоснование в знаменитом труде датского философа Серена Кьеркегора «О понятии иронии». У многих современных философов ирония возводится в абсолют («постмодернистская ирония»). Вне иронического фона практически невозможно само существование искусства, во всяком случае многих его форм. В XX веке роль иронии в искусстве еще более возрастает. Известный современный теоретик искусства В. И. Тюпа по этому поводу заметил: «В художественной культуре ХХ века ироническая модальность выдвигается на ведущие позиции. Она доминирует, в частности, в практике художественного письма разнообразных модификаций авангардизма и постмодернизма. Собственно говоря, только придание иронии статуса самостоятельного модуса художественности позволяет причислять такие антитексты, как знаменитое «Дыр-бул-щыл» А. Крученых, к области эстетической деятельности».[17]
Однако в нашем пособии речь идет не о фундаментальной иронии как основе многих форм искусства, а именно об иронии как тропе, как риторическом приеме, не имеющем прямого отношения к мировоззрению и философии.
Это небольшое отступление мы сделали лишь для того, чтобы избежать двусмысленности.
Сарказм. Наиболее жестким и откровенным случаем иронии, всегда обличительным, является сарказм – подчеркнутая злая насмешка.
Метонимический эпитет. В отличие от метафорического эпитета, этот троп основан на метонимии. Например, «дозорные костры» (костры, которые разожгли те, кто в дозоре), «сумасшедший дом» (дом, где содержатся умалишенные) и так далее.
[1] Шкловский В. Б. Искусство как прием http://transformations.russian-literature.com/node/15
[2] Там же.
[3] Цветаева М. Мать и музыка // http://tsvetaeva.lit-info.ru/tsvetaeva/proza/mat-i-muzyka.htm
[4] Авторство Хлебникова до сих пор признается многими, хотя после опубликованной в «Литературной газете» статьи В. Рождественского (1979) ситуация уже не представляется однозначной.
[5] Это размышление Аристотеля стало классическим, существует несколько вариантов его перевода. Большинством исследователей тезис Аристотеля признается за аксиому, хотя порой встречаются и скептические оценки, например, у Айвора Ричардса. Подробнее см., напр.: Теория метафоры: Сборник: Пер. с анг., фр., нем., исп., польск. яз. / Вступ. ст. и сост. Н. Д. Арутюновой; М., 1990. С. 44 и далее.
[6] Грамматическое сравнение признается далеко не всеми специалистами. В частности, Н. Д. Арутюнова считает его видом метафоры, отчасти противопоставленным «классическому» союзному сравнению. Нам, однако, представляется, что эти различия менее принципиальны, чем черты сходства, поскольку в тексте присутствуют оба сравниваемых понятия. Подробнее иную точку зрения см.: Арутюнова Н. Д. Метафора и дискурс //Теория метафоры: Сборник: Пер. с анг., фр., нем., исп., польск. яз. / Вступ. ст. и сост. Н. Д. Арутюновой; М., 1990, С. 26–29.
[7] Арутюнова Н. Д. Указ. Соч., С. 28.
[8] Маранда П. Метаморфные метафоры//От мифа к литературе. М., 1993.
[9] Множество интересных наблюдений на этот счет приводится в уже упоминавшейся нами статье Р. О. Якобсона «О лингвистических аспектах перевода». Несовпадения метафорики, связанной с животными и птицами в английской и русской культурах, хорошо показаны в книге Т. А. Ушаковой «Английский язык в домашнем изучении» (Иваново, 2011).
[10]Lakoff G, Johnson M. Metaphors We Live By. Chicago- London: The University of Chicago Press, 1980. Фрагменты этой работы переведены и приводятся в постоянно упоминаемой нами «Теории метафоры».
[11]Lakoff G. The Contemporary Theory of Metaphor // Metaphor and Thought. 2nd ed. / Ed. by A. Ortony. – Cambridge: Cambridge University Press, 1993.
[12] Эта мысль одна из центральных в «Современной теории метафоры» Дж.Лакоффа. Ср.: «The locus of the metaphor is not in language at all, but in the way we conceptualize one mental domain in terms of another» (Локус метафоры вовсе не в языке, но в том, как и почему мы определяем одни ментальные области в терминах других).
[13] Теория метафоры: Сборник: Пер. с анг., фр., нем., исп., польск. яз. / Вступ. ст. и сост. Н. Д. Арутюновой; М., 1990, С. 389.
[14] Заинтересованным читателям можно порекомендовать некоторые работы, где различение метафоры и символа показано очень хорошо. Прежде всего, это книга А. Ф. Лосева «Проблема символа и реалистическое искусство» (М., 1976), без которой разговор о символике искусства в современной русской науке вообще немыслим. Четко и ясно расставлены акценты в статье Н. Д. Арутюновой «Метафора и дискурс» (В кн.: Теория метафоры, С. 23 – 26). Хороший обзор литературы и теоретический комментарий представлен в кандидатской диссертации Т. А. Ушаковой «Символ и аллегория в поэзии Николая Гумилева», особенно информативно в этом смысле «Введение». Диссертация находится в открытом доступе на официальном сайте Н. Гумилева: http://www.gumilev.ru/about/68/
[15] Положение осложняется тем, что в разных областях знания термин «символ» понимается по-разному. Сейчас мы говорим о том, как понимается символ в эстетике и психологии, но, например, в теории информации принято другое значение, восходящее к идеям Ч. Пирса и совершенно не совпадающее с эстетическим.
[16] Арутюнова Н. Д. Метонимия// Языкознание. Большой энциклопедический словарь/ Гл. ред. В. Н. Ярцева. М., 1998. С. 300.
[17] Тюпа В. И. Художественный дискурс (Введение в теорию литературы). Тверь, 2002, С.52.
Синтаксис художественной речи
Если лексика отражает знание людей о предметах, формирует понятия (любое слово – это всегда в каком-то смысле понимание предмета), то синтаксис отражает отношения между предметами и понятиями. Скажем, предложение «птица летит» отражает отношение между «птицей» (это сфера лексики, мы должны знать, что такое птица) и «лететь» (это тоже лексика, мы понимаем, что значит «лететь»). Задача синтаксиса – установить связи между этими понятиями. Синтаксис так же моделирует мир, как и лексика. Системы установленных языком отношений в разных культурах могут значительно отличаться друг от друга. Существуют, например, языки, в которых практически (в нашем смысле) не отражены отношения времени. Фраза «он вчера ходил на рыбалку» принципиально не переводима на эти языки, поскольку лексика не зафиксировала понятия «вчера и сегодня», а грамматика и синтаксис не позволяют выразить отношения времени. Любое столкновение с иной синтаксической моделью вызывает трудности. Именно поэтому, например, русские школьники и студенты, изучающие английский язык, испытывают сложности с системой времен, особенно с группой Perfect. Русскому студенту бывает нелегко понять, почему, скажем, Present Perfect для англичанина кажется настоящим временем, ведь в русской модели оно кажется прошедшим.
В художественной литературе у синтаксической модели та же судьба, что и у лексики: художественная речь опирается на сложившуюся норму, но одновременно эту норму расшатывает и деформирует, устанавливая какие-то новые связи. Например, ошибочные с точки зрения «нормального синтаксиса» тавтологические конструкции могут в стихотворении оказаться понятнее и правильнее логически безупречных. Вспомним известное стихотворения М. Кузмина:
Нас было четыре сестры, четыре сестры нас было,
все мы четыре любили, но все имели разные
«потому что»:
одна любила, потому что так отец с матерью ей
велели,
другая любила, потому что богат был ее любовник,
третья любила, потому что он был знаменитый
художник,
а я любила, потому что полюбила.
С точки зрения «нормы» здесь нарушено почти все: мы видим повторы, нарушение порядка слов (инверсию), тавтологию. Но с точки зрения поэзии здесь все совершенно правильно, а тавтологическая связь «любила, потому что полюбила» понятнее и естественнее всех предыдущих «логических».
У каждого писателя свой синтаксический рисунок, своя система предпочтений, наиболее органичная его художественному миру. Одни предпочитают прозрачные синтаксические конструкции, другие (например, Л. Н. Толстой) – сложные, утяжеленные. Заметно различается синтаксический рисунок стиха и прозы. Не случайно чуткий к языку А. С. Пушкин пишет в «Графе Нулине»:
В последних числах сентября
(Презренной прозой говоря).
Фраза «в последних числах сентября» показалась поэту слишком «нормальной» для стиха, она уместнее в прозе. Отсюда и оговорка.
Словом, синтаксический рисунок текста зависит от очень многих факторов. Вместе с тем мировой культурой описаны и освоены многие характерные «нарушения нормы», без которых сегодня художественная речь вообще едва ли возможна. Эти приемы получили название «синтаксических фигур». Часть этих приемов одновременно касается лексики и синтаксиса, их принято называть лексико-синтаксическими, другие в основном относятся к сфере синтаксиса, соответственно называются собственно синтаксическими.
Лексико-синтаксические средства
Оксюморон – прием, когда одно понятие определяется через свою невозможность. В результате оба понятия отчасти теряют смысл, и образуется новое значение. Особенность оксюморона в том, что он всегда провоцирует смыслопорождение: читатель, столкнувшись с вопиюще невозможной фразой, начнет «достраивать» смыслы. Писатели и поэты часто пользуются этим приемом, позволяющим сказать о чем-то кратко и емко. В ряде случаев оксюморон бросается в глаза («Живой труп» Л. Н. Толстого, «Горячий снег» Ю. Бондарева), в других он может быть менее заметен, обнаруживает себя при более вдумчивом прочтении («Мертвые души» Н. В. Гоголя – ведь у души нет смерти, «мертвая зелень ветвей» у пушкинского анчара – ведь зеленая листва у дерева знак жизни, а не смерти). Огромное число оксюморонов мы найдем в поэзии А. Блока, А. Ахматовой и других корифеев русской поэзии.
Катахреза – нарочито алогичное высказывание, имеющее выразительный смысл. «Да она же рыба! И руки-то у нее какие-то белые, рыбьи». Ясно, что у рыбы рук быть не может, метафора построена на катахрезе.
Антитеза – резкое противопоставление чего-либо, подчеркнутое синтаксически. Классическим примером антитезы является пушкинская характеристика отношений Ленского и Онегина:
Они сошлись. Волна и камень,
Стихи и проза, лед и пламень
Не столь различны меж собой.
Обратим внимание, что у Пушкина подчеркнутая антитеза отчасти снимается следующей строкой, что делает ситуацию неоднозначной.
Синтаксические средства, связанные с повторами
Повтор. Самым простым средством является собственно повтор (удвоение). Риторическое значение такого повтора огромно. Человек устроен так, что повторенному несколько раз действию он верит больше, чем действию, про которое сказано, что оно сильное. Например, фраза «Я его ненавижу, ненавижу, ненавижу» произведет больший эффект, чем «Я очень сильно его ненавижу». Художественная роль повтора огромна. И прозаическая, и особенно поэтическая художественная речь с древнейших времен изобилует повторами, эстетическое воздействие повторов люди оценили на самой заре искусства. Повторами полны и фольклорные тексты, и современная поэзия. Повторенное слово или повторенная конструкция не просто «раскачивает» эмоцию, но приводит к некоторому замедлению речи, позволяя сосредоточиться на опорном и важном слове. В этом смысле повтор связан с другим важным поэтическим приемом – ретардацией (искусственным замедлением речи). Ретардация может достигаться разными способами, повтор – самый простой и известный. В качестве примера приведем одно из самых известных и пронзительных стихотворений Николая Рубцова:
Плыть, плыть, плыть
Мимо могильных плит,
Мимо церковных рам,
Мимо семейных драм...
Скучные мысли – прочь!
Думать и думать – лень!
Звезды на небе – ночь!
Солнце на небе – день!
Плыть, плыть, плыть
Мимо родной ветлы,
Мимо зовущих нас
Милых сиротских глаз...
Анафора, или единоначатие – повторение звуков, слова или группы слов в начале предложения, законченного абзаца (в стихотворной речи – строфы или строки):
«Мой долг мне ясен. Мой долг – делать мое дело. Мой долг – быть честным. Мой долг я исполню».
В прозаической речи, произносимой вслух, анафора позволяет усиливать эффект от приводимых доказательств и примеров. Повтор в начале каждого предложения «умножает» значимость аргументов: «Именно в этих местах он провел свое детство. Именно здесь он прочел первые книги. Именно здесь он написал первые строки».
Особенно вырастает роль анафоры в стихотворных текстах, где она стала одной из почти обязательных примет стиха:
Жди меня, и я вернусь.
Только очень жди,
Жди, когда наводят грусть
Желтые дожди,
Жди, когда снега метут,
Жди, когда жара,
Жди, когда других не ждут,
Позабыв вчера.
Жди, когда из дальних мест
Писем не придет,
Жди, когда уж надоест
Всем, кто вместе ждет.
Знаменитое стихотворение К. Симонова невозможно представить без анафорического заклинания «жди меня».
В только что цитированном стихотворении Николая Рубцова, удвоение «плыть, плыть, плыть» резонирует с анафорой «мимо…, мимо…, мимо…», что создает тонкий психологический рисунок стиха.
Эпифора – повторение одних и тех же слов в конце смежных отрезков речи, прием, противоположный анафоре: «Найти нужное решение и сделать то, что нужно, – вот что главное в их работе. Быстро отреагировать на ситуацию и не растеряться – вот что главное в их работе. Сделать свою работу и вернуться живыми к женам – вот что главное в их работе …»
В поэтической речи эпифора иногда (достаточно редко) проявляется в виде слова или выражения, заканчивающего любую строку, как, например, в стихотворении Е. Евтушенко «Улыбки»:
У тебя было много когда-то улыбок:
Удивленных, восторженных, лукавых улыбок,
Порою чуточку грустных, но все-таки улыбок.
У тебя не осталось ни одной из твоих улыбок.
Я найду поле, где растут сотни улыбок.
Я принесу тебе охапку самых красивых улыбок…
Но гораздо чаще эпифора в поэзии – это повторение опорного слова или выражения через какой-то фрагмент текста, своеобразный «небольшой рефрен». Она очень характерна для восточной поэзии и ее стилизаций. Вот, например, фрагмент восточной стилизации М. Кузмина:
Цветут в саду фисташки, пой, соловей!
Зеленые овражки пой, соловей!
По склонам гор весенних маков ковер;
Бредут толпой барашки. Пой, соловей!
В лугах цветы пестреют, в светлых лугах!
И кашки, и ромашки. Пой, соловей!
Весна весенний праздник всем нам дарит,
От шаха до букашки. Пой, соловей!
Эпанафора (анадиплосис), или стык – прием, при котором конец предложения повторяется в начале следующего. «Все мы ожидаем друг от друга понимания наших сокровенных желаний. Наших сокровенных желаний, исполнения которых мы все втайне ждем».
Прием стыка всем хорошо известен по народной русской поэзии или ее стилизациям:
Станем-ка, ребята, челобитную писать,
Челобитную писать, во Москву посылать.
Во Москву посылать, царю в руки подавать.
В поэзии эпанафора – один из самых частых и любимых приемов:
Я мечтою ловил уходящие тени,
Уходящие тени погасавшего дня,
Я на башню всходил, и дрожали ступени,
И дрожали ступени под ногой у меня.
Известное многим со школы хрестоматийное стихотворение К. Бальмонта построено, кроме всего прочего, на постоянных эпанафорах.
Многосоюзие, или полисиндетон – умышленное увеличение количества союзов в предложении. При употреблении этой риторической фигуры речь замедляется вынужденными паузами, и подчеркивается роль каждого из слов, а также единство перечисляемого. Многосоюзие является, по сути, частным случаем анафоры: «А дом, а родных, а друзей, а соседей ты не забыл?»
Бессоюзие, или асиндетон – такое построение речи, при котором опускаются союзы и соединяющие слова, что придает высказыванию динамичность и стремительность, как, например, в пушкинской «Полтаве»:
Швед, русский колет, рубит, режет,
Бой барабанный, клики, скрежет.
Синтаксический параллелизм – прием, при котором соседние предложения строятся по одинаковой схеме. Сходность таких элементов речи часто обеспечивается анафорой или эпифорой: «Я вижу, как изменился город и на его улицах появились дети; я вижу, как изменились дороги, и на них появились новые иномарки; я вижу, как изменились люди и на их лицах появились улыбки».
Градация – такое расположение частей высказывания, относящихся к одному предмету, при котором каждая последующая часть оказывается более выразительной, чем предыдущая: «Я не знаю ни страны, ни города, ни улицы, ни дома, где она живет»; «Мы готовы возражать, спорить, конфликтовать, воевать!» Иногда градацию отличают от схожей фигуры «накопление» (повтор с семантическим усилением, скажем, накопление синонимов с возрастающей экспрессией). Чаще сегодня говорят только о градации, объединяя все схожие приемы этим термином:
В деревню, к тетке, в глушь, в Саратов,
Там будешь горе горевать.
(А. С. Грибоедов)
Амплификация – повторение речевых конструкций или отдельных слов. Амплификация может выражаться, например, в накоплении синонимов или сравнений. «Мы стараемся выстраивать добрые, дружеские, отношения, мы стараемся, чтобы наши отношения были братскими, надежными». Под амплификацией часто подразумевается также возвращение к одной и той же мысли, ее углубление. Частным видом амплификации является приращение (наращение) – прием, когда текст всякий раз повторяется с каждым новым фрагментом. Этот прием очень популярен в английской детской поэзии. Вспомним «Дом, который построил Джек» (перевод С. Я. Маршака):
Вот дом,
Который построил Джек.
А это пшеница,
Которая в темном чулане хранится
В доме,
Который построил Джек.
А это веселая птица-синица,
Которая часто ворует пшеницу,
Которая в темном чулане хранится
В доме,
Который построил Джек…
Хиазм – обратный параллелизм. «Мы научились относиться к животным, как к людям, но это не значит, что нужно относиться к людям, как к животным». Зеркальная выразительность хиазма давно взята на вооружение поэтами и писателями. Удачный хиазм, как правило, приводит к запоминающейся формуле: «Надо есть, чтобы жить, а не жить, чтобы есть».
Синтаксические средства, не связанные с повторами
Парафраз – заведомое искажение известной фразы, применяемое в риторических целях. Например, фраза «Человек – это звучит горько» парафразирует знаменитую фразу Горького «Человек – это звучит гордо». Сила парафраза в том, что начинают «играть» контексты, знакомые слушателю, и возникает явление резонанса. Поэтому парафраз всегда будет убедительнее, чем та же мысль, высказанная без обыгрывания известного афоризма.
Риторический вопрос – вопрос, который не требует ответа, но имеет эмоциональное значение. Часто это утверждение, высказанное в вопросительной форме. Например, риторический вопрос «И у кого же нам теперь спросить, что делать?» подразумевает «Теперь нам не у кого спросить, что делать».
Риторическое восклицание. Обычно этим термином называют восклицание как таковое. При помощи восклицания можно прямо передать эмоции: «Что это было за время!» Восклицание выражается интонационно, а также же при помощи междометий и особой структуры предложения: «О, какие перемены нас ждут!» «Боже мой! И все это происходит в моем городе!»
Риторическое обращение – условное обращение к кому-либо в рамках монолога. Это обращение не открывает диалога и не требует ответа. В действительности это утверждение в форме обращения. Так, вместо того, чтобы сказать «Мой город изуродован» писатель может сказать: «Мой город! Как тебя изуродовали!» Это делает утверждение более эмоциональным и личным.
Парцелляция – нарочитое «дробление» синтаксической конструкции на простые элементы, чаще всего с нарушением синтаксической нормы. Парцелляция очень популярна у писателей и поэтов, так как позволяет выделить каждое слово, сделать на нем акцент. Например, известный рассказ А. Солженицына «Матренин двор» с точки зрения синтаксической нормы должен был бы заканчиваться так: «Все мы жили рядом с ней и не поняли, что есть она тот самый праведник, без которого, по пословице, не стоит ни село, ни город, ни вся земля наша». Но писатель использует парцелляцию, и фраза становится гораздо выразительнее:«Все мы жили рядом с ней и не поняли, что есть она тот самый праведник, без которого, по пословице, не стоит село.
Ни город.
Ни вся земля наша».
Инверсия – нарочитое нарушение правильного порядка слов. В современной культуре инверсия – норма поэтической речи. Она не только позволяет оттенить нужные слова, но и радикально расширяет возможности ритмической пластики речи, то есть делает возможным «вписать» нужное сочетание слов в заданный ритмический рисунок стиха. Поэзия почти всегда инверсионна:
Любви, надежды, тихой славы
Недолго нежил нас обман…
(А. С. Пушкин)
Синтаксических средств выразительности очень много, рассказать обо всех в пределах нашего пособия физически невозможно. Стоит еще отметить перифраз (описание какого-то понятия или явления вместо его прямого называния), эллипсис (пропуск необходимого языкового элемента, например, «а он – к ней» вместо «а он бросился к ней») и др.
Грамматические, словообразовательные и фонетические особенности художественной речи
Грамматика, словообразование и фонетика – такие же участники языковой модели мира, как лексика и синтаксис. В разных языках мир по-разному услышан, по-разному структурирован, предложены разные модели словообразования. Даже голоса животных в разных языках услышаны по-разному. Русскому человеку трудно услышать в лае собаки японское «вянь-вянь» вместо привычного «гав-гав», а в крике чаек мы не слышим кошачьего мяуканья, в отличие от англичанина[1].
Фонетическая модель мира у каждой культуры своя, в ней свои ассоциации, свое представление о красоте звуковых сочетаний. Если русский человек, например, услышит пушкинское «Я вас любил…» в китайском или вьетнамском переводах, он испытает интеллектуальный шок – настолько непривычно и странно звучит пушкинский текст. Даже не зная языка, столкнувшись с «чистой» фонетикой, мы почувствуем какую-то совершенно иную, непонятную нам игру звуков – в то же время родную и близкую носителям восточных языков.
Естественно, что грамматика, фонетика и словообразование играют в художественном творчестве огромную роль. Во многих случаях фонетические или грамматические ассоциации могут оказаться смыслопорождающими, рождать целые сюжеты в национальной или мировой культуре. Так, услышанное древними греками фонетическое сходство слов «Кронос» (отец Зевса, убитый им) и «Хронос» (время) породило целую традицию. Именно время стало ассоциироваться с чудовищем, порождающим и пожирающим своих детей. А величие Бога в том, что он победил время и обрел бессмертие. Эти смыслы порождены фонетическими ассоциациями.
Фонетическая близость имени малазийской богини Апродис с греческим «афрос» (пена) породила один из самых красивых мифов европейской культуры – о пенорожденной красавице Афродите – богине любви. Сегодня по всему миру существуют тысячи стихов и картин, посвященных рожденной из морской пены красавице:
Останься пеной, Афродита,
И, слово, в музыку вернись…
(О. Мандельштам)
В английской культуре фонетическая близость слов «knight» (рыцарь) и «night» (ночь) породила образ «рыцаря ночи» (The knight of the night) c множественными проекциями в английскую и европейскую культуры – от демона и вампира до хранителя и героя.
Мы видим, что фонетика не просто «помогает» речи быть более выразительной и красивой, но в ряде случаев может иметь решающее значение для создания образа или сюжета.
«Порождающими» свойствами обладает и грамматика. Так, наличие в русском языке категорий мужского и женского рода для неодушевленных существительных делает возможными сюжеты, которые в другой культуре просто не могли бы родиться. Вспомним, например, «Военно-морскую любовь» В. Маяковского:
По морям, играя, носится
с миноносцем миноносица.
Льнет, как будто к меду осочка,
к миноносцу миноносочка.
<…>
Плач и вой морями носится:
овдовела миноносица.
И чего это несносен нам
мир в семействе миноносином?
Ясно, что такой сюжет возможен лишь там, где грамматически возможно «развести» понятие «миноносец» по родам. Скажем, в английском языке такое стихотворение не появилось бы.
Таким образом, фонетика и грамматика не просто усиливают впечатление, но в ряде случаев играют принципиальную роль, образуя смысловой центр произведения. Так, в известном стихотворении А. Вознесенского «Гойя» имя художника по принципу фонетического сходства ассоциируется с бесчисленными бедами мира:
Я – Го йя!
Глазницы воронок мне выклевал ворон,
слетая на поле на го е.
Я – Го ре.
Я – го лос
Войны, го родов го ловни
на снегу сорок первого го да.
Я – Го лод.
Я – го рло
Повешенной бабы, чье тело, как колокол,
било над площадью го лой...
Я – Го йя!
Мир как бы стягивается в имя великого художника, рифмуется с ним. Фонетика здесь не просто подчеркивает смыслы, но порождает их.
Чаще, правда, фонетические приемы: аллитерация (накопление однотипных согласных) и ассонанс (накопление однотипных гласных) сами по себе смысла не рождают, они все-таки выполняют функции помощников. Попытки некоторых поэтов (особенно это было характерно для футуристов) выразить какое-либо содержание «чистой звукописью» оказались интересными, но в целом к успеху не привели.
Когда футуристы утверждали, что в скандально известном стихотворении А. Крученых, сотканном из «чистых» звуков русского языка, больше национального, чем во всей поэзии Пушкина, это все-таки не более чем эпатаж:
Дыр- бул- щыл
убешщур
скум
вы со бу
р-л-эз
Попытки современных исследователей «расшифровать» звукопись этого стихотворения с учетом новейших изысканий в сфере звукосемантики[2] и увидеть в нем «звуковой код» образа грозы представляются все же слишком произвольными.
Корреляции между звуком и образом, несомненно, есть, но они не линейны, имеют много каналов связей и, соответственно, допускают множество интерпретаций.[3]
Нечто подобное можно сказать и о грамматике. Грамматические нормы в литературе нарушаются постоянно с самыми разными целями. Уже у Гомера мы видим, что грамматические нормы порой игнорируются во имя сохранения гекзаметра. В литературе нового времени нарушения грамматики происходят постоянно. Эти нарушения получили общее название «анаколуф», и сегодня анаколуф встречается повсеместно. Это и нарочито разорванные связи словосочетаний (часто для передачи волнения героя), и оборванные или неверно сконструированные предложения (либо подчеркивается волнение, либо необразованность героя), и авторские формообразования («В сто сорок солнц закат пылал» у Маяковского). Строго говоря, любая бросающаяся в глаза инверсия с точки зрения нормы является грамматическим нарушением.
В ряде случаев грамматические «вольности» нарочито бросаются в глаза: «И дут белые снег и» у Евтушенко вместо «Ид у т белые снег а». В других случаях нарушение не бросается в глаза, но делает образ выразительным и неожиданным. Мало кто из читателей почувствует грамматическую ошибку в знаменитых строках Пушкина:
Мне грустно и легко; печаль моя светла;
Печаль моя полна тобою.
А ведь они построены по ошибочной, с точки зрения нормы, схеме. Попробуйте сказать, например, «любовь моя полна Олей» и сразу почувствуете нелепость фразы. Но в шедевре Пушкина «минус» становится «плюсом». Строки исключительно выразительны, а никакой ошибки не ощущается.
Другой пример – знаменитое стихотворение Н. Гумилева «Жираф»:
Сегодня, я вижу, особенно грустен твой взгляд
И руки особенно тонки, колени обняв.
Восхищенный этими строками Сергей Есенин говорил, что в результате отступления от грамматической нормы родилась поза.
Но все же фонетические и грамматические отклонения и находки в большей степени выполняют функцию резонаторов, центр тяжести литературного произведения связан, как правило, не с ними. Иное дело – словообразование. Вот здесь, особенно в литературе XX века, очень часто проявляется самая сердцевина художественной речи, процесс словотворчества напрямую связан с созданием своей оригинальной модели мира. Ведь если вдуматься, то любая оригинальная метафора содержит в себе элемент словообразования. В литературе, особенно в поэзии XX века, роль словообразования чрезвычайно велика. Поэт очень часто создает слово, если возможности языка исчерпаны или по каким-то причинам не релевантны, то есть не дают возможности адекватного выражения мысли. У Тургенева в «Отцах и детях» кучер бранит лошадь за то, что она «головизной лягает», то есть дергает головой. Прекрасный в своей выразительности образ.
Поэзия XX века дает нам примеры почти всех способов словообразования при создании окказиональных слов. У Есенина в знаменитом «Письме к матери» читаем:
Ничего, родная! Успокойся.
Это только тягостная бредь.
Не такой уж горький я пропойца,
Чтоб, тебя не видя, умереть.
Насколько выразительнее и точнее в этом контексте слово женского рода «бредь» нейтрального «бред»!
У Велимира Хлебникова словообразование становится едва ли не центром структурирования поэтического мира. Один из наиболее авторитетных специалистов по словотворчеству Хлебникова, В. П. Григорьев, в связи с этим вводит даже новый термин «мифонеологизм», то есть такое словотворчество, которое переименовывает мир, фактически создавая его заново[4].
Современная поэзия вне активного словотворчества совершенно непредставима. Другое дело, что у талантливого поэта словотворчество не является самоцелью, это способ сказать что-то новое о мире, а вот у менее одаренного автора словесная игра часто становится самоцелью, она ничего не открывает и никуда не ведет. Но это уже проблема таланта, выходящая за пределы нашей книги.
[1] Подробнее о несовпадениях в восприятии криков животных и птиц и других забавных несовпадениях см., например: Влахов С., Флорин С. Непереводимое в переводе. М., 1980. Особенно интересна в этом плане вторая часть книги.
[2] Журба А. М., Разинкова М. К. Стихотворение Алексея Крученых «Дыр-бул-щыл…» и теория параболы http://www.terra-futura.com/index.php? option=com_content&task=view&id=39&Itemid=33
[3] Проблема связи звука и образа подробно описана в третьей главе («Стих и звук») книги Л. И. Тимофеева «Слово в стихе» (М., 1982).
[4] Подробнее см.: Григорьев В. П. Словотворчество и смежные проблемы языка поэта. М., 1986; Бирюков С. Е. Мерой научности // Язык как творчество. М., 1996.
Рекомендованная литература (к гл. VII)
1. Анализ одного стихотворения: Межвузовский сборник / под ред. В. Е. Холшевникова. Л., 1985.
2. Иванов Вяч. Вс. О языке как модели мира // Интеллектуальные процессы и их моделирование. М., 1987, С.142–153.
3. Клинг О. А. Словарь поэтический// Введение в литературоведение. Литературное произведение / Под ред. Л. В. Чернец. М., 2002.
4. Теоретическая поэтика: понятия и определения: Хрестоматия для студентов филологических факультетов / автор-составитель Н. Д. Тамарченко. М., 1999. Тема 10.
5. Теория метафоры: Сборник: Пер. с анг., фр., нем., исп., польск. яз. / Вступ. ст. и сост. Н. Д. Арутюновой; М., 1990.
6. Тимофеев Л. И. Основы теории литературы. М., 1963. С. 167–250.
7. Тимофеев Л. И. Слово в стихе (глава 3. Стих и звук). М.,1982, С. 93–130.
8. Томашевский Б. Ф. Теория литературы. Поэтика. М., 2002. С. 28–101.
9. Федотов О. И. Основы теории литературы: в 2 ч. – Ч.1, М., 2003. С.128–252.
10. Шкловский В. Б. Гамбургский счет. М., 1990, С. 36–73.
11. Язык как творчество: Сборник статей. М., 1996
12. Давыдова Т. Т., Пронин В.А. Теория литературы. М., 2003. Глава 7 «Художественная речь».
Глава VIII. Основы стиховедения
Отличие стиха от прозы
Говоря о различении стиха и прозы, специалисты часто с иронией вспоминают пьесу Ж. Б. Мольера «Мещанин во дворянстве», где учитель наивно объясняет господину Журдену, чем стихи отличаются от прозы: «Все, что не проза – то стихи, и все, что не стихи, то проза». Мольер, естественно, пародировал недалекость и малообразованность героев, но проблема в том, что и вполне квалифицированные профессионалы XXI века зачастую оказываются в сложном положении, когда нужно объяснить разницу между прозой и стихом. Кажущаяся самоочевидность ответа («Ахматова – стихи, а Толстой – проза») доказывает лишь то, что эта разница есть, но никак не дает нам надежного критерия разграничения. Существует несколько вопросов, которые определяют проблемное поле современного стиховедения:
· во-первых, зачем человечеству стихи, насколько они соответствуют логике развития языка и, наконец, какая речь более «правильная» для человеческой культуры: прозаическая или стихотворная?
· во-вторых, каковы более или менее надежные критерии отличия стиха и прозы и существуют ли вообще такие универсальные критерии?
· в-третьих, благодаря каким резервам языка происходит «превращение» прозы в стих?
· в-четвертых, сложнейшей проблемой является то, касается ли различение стиха и прозы лишь формы организации речи или же перед нами две принципиально разные системы мышления?
Именно постановка и решение этих проблем делает стиховедение не формальной наукой, просто классифицирующей виды размеров, строф и рифм, а самостоятельной и сложной частью филологии.
Представляется логичным начать разговор о стиховедении с короткого обзора этой проблематики.
Итак, почему людям нужны стихи, если в обычной речи современный человек, как правило, говорит иначе? Со стиха или с прозы начался «праязык» человека?
Известный польский литературовед и писатель Ян Парандовский заметил в «Алхимии слова»: «Если не принимать в расчет несколько наивных концепций Гердера, нет ни одной мало-мальски серьезной гипотезы о том, будто бы вначале человечество разговаривало стихами, и тем не менее история каждой литературы начинается не с прозы, а с поэзии. Ибо то, что первым возвысилось над обиходной речью, было стихом, и часто он уже достигал совершенства задолго до того, как были сложены первые несмелые фразы художественной прозы»[1].
Парандовский, правда, не совсем точен в фактах. Концепция «стихового» начала первоязыка людей высказывалась и до И. Г. Гердера, еще в начале XVIII века, в частности, на этом строилась концепция происхождения языка Дж. Вико, и – главное – она вполне всерьез рассматривается крупнейшими современными эстетиками и стиховедами. О ней в конце XX века размышлял знаменитый философ языка Г. Гадамер, а признанный специалист-стиховед М. Шапир замечал: «Нет ни малейшей возможности доказать генетическую, эволюционную или типологическую первичность нестихотворной речи»[2]. Но в одном Парандовский, несомненно, прав: любые развитые формы словесной художественной культуры сначала обнаруживают себя в стихе, а лишь затем – в прозе.[3]
Причины возникновения стихотворной речи ученые пытались увидеть в самых разных сторонах жизни человека: во всеобщей ритмизованности мира и человеческого организма, в эротических ритмических проекциях бессознательного, в изначальной ритмизации детской речи и т. д., однако по-настоящему убедительного ответа еще не дано.
Положение осложняется еще и тем, что не совсем понятно, как нам отличить стих от прозы. Крупнейший российский стиховед М. Л. Гаспаров предложил определение, которое сегодня зацитировано: «Стих — это текст, ощущаемый как речь повышенной важности, рассчитанная на запоминание и повторение. Стихотворный текст достигает этой цели тем, что делит речь на определенные, легко охватываемые сознанием части. Кроме общеязыкового членения на предложения, части предложений, группы предложений и пр., здесь присутствует еще и другое деление — на соотносимые и соизмеримые отрезки, каждый из которых тоже называется “стихом”».[4]
Это определение корректно, однако вопросы все равно остаются. Если подойти просто со стороны организованности и членения речи на отрезки, то останется вопрос о содержательной значимости такого членения. Само по себе указание на повышенную важность и запоминаемость проблемы не снимает. В этом смысле прав А. Г. Машевский, когда, комментируя гаспаровское определение, замечает: «Однако и проза бывает весьма важной. И ее запоминают и повторяют, например, анекдот».[5]
Формальные признаки сами по себе тоже недостаточны. Тот же А. Г. Машевский остроумно замечает: «В принципе, формально в стихи можно превратить любой текст, например, газетную передовицу:
Тревожные слухи ходили последнее время в поселке
Некрасовское: на грани
Банкротства оказалось старейшее
Предприятие района – машиностроительный завод,
Основной продукцией которого были
Винные насосы, а рынки
Их сбыта – в основном бывшие
Южные республики бывшего Союза.
Получается смешно. Почему? Да потому, что связи «по вертикали» устанавливаются в этом тексте случайно, превращая информацию, которую выдает автор, в нечто пародийное.
Кроме того, оказывается, что мы как бы перестаем понимать, о чем, собственно, сообщает нам участок только что прочитанного текста. Конечно, можно сослаться на то, что разбивка на строки <…> затрудняет восприятие информации. Но именно эта разбивка и сделала прозу стихами»[6].
Таким образом, важно понимать, что стих отличается от прозы не каким-то одним признаком (ритмическим или графическим), но представляет собой особую систему организации речи, где все элементы (слова, звуки, грамматика, синтаксис и др.) подчинены каким-то законам упорядоченности[7].
Слово в стихе функционирует совсем не так, как в прозе, оно теснее связано с другими словами и с логикой всей конструкции. Эту особенность стиха известный литературовед Ю. Н. Тынянов еще в 20-е годы XX века назвал «законом единства и тесноты стихового ряда» [8]. Именно нарушение этого тыняновского закона приводит к тому, что записанная в виде стиха проза становится плохой прозой, а не хорошим стихом. Стих представляет собой сложную и исторически подвижную систему законов и взаимодействий элементов.
Если эти законы не осмыслены обществом, не приняты в своей системности, говорить об оппозиции стиха и прозы вообще едва ли возможно. М. Л. Гаспаров замечает по этому поводу: «Когда начинают делать обзор истории русского литературного стиха, его начинают делать с XVII в. На первый взгляд это кажется странным: как будто до этого на Руси не существовало поэзии, не существовало стихотворных средств выражения, не существовало стиха. Нужно присмотреться ближе, чтобы уточнить это впечатление: поэзия существовала, стихотворные средства выражения — ритм и рифма – существовали, но стиха действительно не существовало.
Все средства стихотворной речи во главе с ритмом и рифмой были доступны уже древнерусской литературе. Однако, существуя порознь и даже в совокупности, все эти средства не складывались в понятие «стих». Противоположность «стих—проза», которая ныне кажется столь очевидной, для древнерусского человека не существовала».[9]
Стоит, впрочем, заметить, что ее не существовало в современном смысле слова и в письменной литературе. Однако на уровне восприятия текста слушателями ситуация, судя по всему, столь однозначной не была. Совершенно прав Н. А. Богомолов, когда замечает: «В культурном обиходе русского народа с древнейших времен существует одна из форм поэзии – устное народное поэтическое творчество. И именно это творчество дает нам первую систему русского стиха»[10]. Многие формы народного стиха разительно отличаются от прозаической речи, то же самое можно сказать о покаянных стихах, возникших в русской культуре не позднее середины XV века, о многих формах духовных стихов и т. д. Здесь масса сложностей, связанных с тем, что эти тексты либо вообще не записывались, либо это была запись, далекая от тех стандартов, которыми мы пользуемся сегодня, их трудно анализировать, «исходя из теории классического стиха, которая стоит в явном противоречии с технологией форм народного стиха» (А. П. Квятковский). Но то, что весь системный строй этих текстов имеет мало общего, например, с летописями или агиографической литературой (описанием деяний святых), бросается в глаза. Другое дело, что все это не приводило к той литературной оппозиции «проза – стихи», с которой мы сталкиваемся сегодня.
Вообще в современной науке отчетливо видны две тенденции в решении вопроса о разграничении стиха и прозы. Одни специалисты считают, что важнейшим критерием является характер звучания текста. Это фонетический подход. Характер записи менее принципиален, запись лишь фиксирует и подчеркивает особенности звучания. Классическое определение в рамках этой традиции дал В. М. Жирмунский: «Стихотворная речь отличается от прозаической закономерной упорядоченностью звуковой формы».[11] Этот подход хорошо описывает классические стихи, он дает инструментарий фонетического анализа, собственно, на нем построена вся классическая система размеров. Но по отношению ко многим произведениям он оказывается беспомощным. Дело в том, что не всегда фонетика является решающим фактором для организации текста в стихотворную форму. Часто решающее значение имеет графика, то есть зрительный образ стиха, который нельзя описать в терминах фонетики. Посмотрим на стихотворение С. Кирсанова «Ад»:
Иду
в аду.
Дороги –
в берлоги,
топи, ущелья
мзды, отмщенья.
Врыты в трясины
по шеи в терцинах,
губы резинно раздвинув,
одни умирают от жажды,
кровью опившись однажды.
Ужасны порезы, раны, увечья,
в трещинах жижица человечья.
Кричат, окалечась, увечные тени:
уймите, зажмите нам кровотеченье,
мы тонем, вопим, в ущельях теснимся,
к вам, на земле, мы приходим и снимся.
Выше, спирально тела их, стеная, несутся,
моля передышки, напрасно, нет, не спасутся.
Огненный ветер любовников кружит и вертит,
по двое слипшись, тщетно они просят о смерти.
За ними! Бросаюсь к их болью пронзенному кругу,
надеясь свою среди них дорогую заметить подругу.
Мелькнула. Она ли? Одна ли? Ее ли полузакрытые веки?
И с кем она, мучась, сплелась и, любя, слепилась навеки?
Франческа? Она? Да Римини? Теперь я узнал: обманула!
К другому, тоскуя, она поцелуем болящим прильнула.
Я вспомнил: он был моим другом, надежным слугою,
он шлейф с кружевами, как паж, носил за тобою.
Я вижу: мы двое в постели, а тайно он между.
Убить? Мы в аду. Оставьте у входа надежду!
О, пытки моей беспощадная ежедневность!
Слежу, осужденный на вечную ревность.
Ревную, лететь обреченный вплотную,
вдыхать их духи, внимать поцелую.
Безжалостный к грешнику ветер
за ними волчком меня вертит
и тащит к их темному ложу,
и трет меня об их кожу,
прикосновенья – ожоги!
Нет обратной дороги
в кружащемся рое.
Ревнуй! Эти двое
наказаны тоже.
Больно, боже!
Мука, мука!
Где ход
назад?
Вот
ад.
Фонетически передать эту ромбообразную форму построения невозможно, как невозможно передать «зеркальную» композицию, подчеркнутую пробелом в центре. Но для организации этого текста графический фактор принципиально важен – и ритмически, и содержательно. Графические «изыски» – вовсе не открытия поэзии новейшего времени. Ими активно пользовались уже поэты эпохи барокко (XVII век). Вот, например, стихотворение немецкого поэта Иоганна Гельвига «Песочные часы». Попробуйте, не видя текста, догадаться, почему оно так называется, а ведь именно мотив времени, песочных часов здесь принципиально важен:
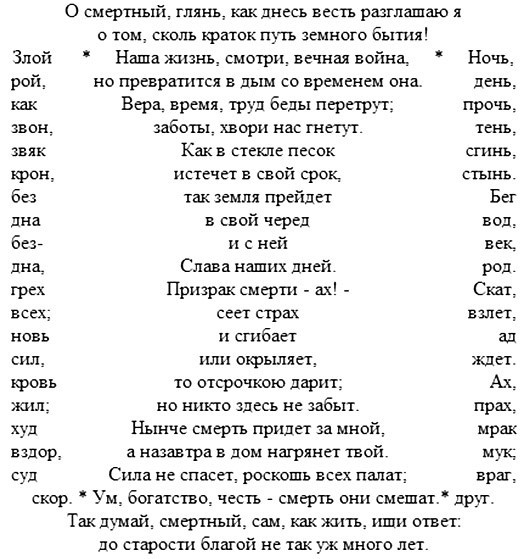
Фонетическая теория в данном случае вынуждена сложить оружие.
Обилие подобных текстов, особенно в культуре XX века, вызвало к жизни графическую теорию, когда важнейшим критерием стиха является не упорядоченность звучания, а упорядоченность написания. Сегодня она очень популярна, и ее опорный тезис стал расхожим афоризмом: «Текст, записанный в столбик, – стихи, в строчку – проза»[12]. Графическая теория гораздо адекватнее описывает подобные тексты и хорошо подходит для промежуточных форм между классическим стихом и прозой (например, им, в основном, и посвящены многие работы известного стиховеда Ю. Б. Орлицкого[13]). Однако абсолютизация графики – вещь коварная. Выше уже было показано, что «запись в столбик» не превращает газетную передовицу в стих, а просто мешает ее читать. Системность стиха – явление куда более сложное, чем форма записи. Поэтому нам кажется логичнее принять за основу фонетический подход, дополняя его открытиями графической теории. Кроме всего прочего, мировая поэзия, основанная на звуковой упорядоченности, доминирует и в количественном, да и в качественном отношении. Сколь бы ни были интересны фигурные стихи, авторитет стихотворной речи создали все-таки не они. Общая теория стиха этот фактор должна учитывать.
Словом, и сегодня представляются вполне актуальными слова Л. И. Тимофеева, сказанные уже более семидесяти лет назад: «Очевидно, что как бы ни определять специфику стихотворной речи, она представляет собой определенную систему повествования. Строй этого повествования в художественной литературе не является чем-то внешним, внеположным остальным сторонам художественного произведения <…>, и его жанру. Это, естественно, приводит к пониманию стиха как определенного художественного комплекса, как единства, где специфичность стихотворной речи связана не только со звуковыми ее особенностями, а и с ее интонационно-синтаксическим и лексическим строем, с композиционными особенностями и т. д. и т. д.»[14] Графика как способ визуального оформления стиха является важным, но едва ли решающим звеном этого комплекса.
[1] Парандовский Я. Алхимия слова. Олимпийский диск. М., 1982. С. 27.
[2] Шапир М. И. «VERSUS» VS «PROSA»: Пространство-время поэтического текста // Philologica, 1995, т. 2, № 3/4, С. 10.
[3] С этим, правда, не согласился бы выдающийся филолог А. Н. Веселовский, считавший, что поэзия и проза должны были возникнуть одновременно, однако в зафиксированных художественных памятниках стихи архаичнее прозы. Если только вообще по отношению ко многим древним памятникам (например, к «Слову о полку Игореве») такое деление возможно.
[4] Гаспаров М. Л. Очерк истории европейского стиха. М., 2003. С. 7.
[5] Машевский А. Г. Что такое стихи // Folio verso, http://www.hkey.ru/folioverso.ru /misly/6/1.htm
[6] Там же.
[7] Несколько в иной терминологии, но с теми же акцентами решает проблему разграничения стиха и прозы М. И. Шапир в блестящей, хотя и едва ли доступной начинающему филологу по сложности статье «Стих против прозы». См.: Шапир М. И. «VERSUS» VS «PROSA»: Пространство-время поэтического текста // Philologica, 1995, т. 2, № 3/4. Принцип системности так или иначе признается практически всеми стиховедами (В. М. Жирмунский, Б. М. Томашевский, Л. И. Тимофеев, М. Л. Гаспаров и др.).
[8] «Оба эти признака – единство и теснота стихового ряда – создают третий его отличительный признак – динамизацию речевого материала». См.: Тынянов Ю. Н. Проблема стихотворного языка. Статьи. М., 1965. С. 67.
[9] Гаспаров М. Л. Оппозиция «стих – проза» и становление русского литературного стиха // Русское стихосложение: Традиции и проблемы развития. М., 1985. С. 264
[10] Богомолов Н. А. Краткое введение в стиховедение. М., 2009, С. 5.
[11] Жирмунский В. М. Теория стиха. Л., 1975. С. 8.
[12] См., напр.: Поликовская Л. Поэзия и проза // Онлайн Энциклопедия «Кругосвет», http://www.krugosvet.ru/enc/kultura_i_obrazova nie/literatura /POEZIYA_I_PROZA.html; В целом тех же взглядов придерживается, например, известный стиховед Ю. Б. Орлицкий в своей объемной и чрезвычайно содержательной монографии. См.: Орлицкий Ю. Б. Стих и проза в русской литературе. М., 2002.
[13] См., напр.: Орлицкий Ю. Б. Стих и проза в русской литературе: Очерки истории и теории. Воронеж, 1991; Орлицкий Ю. Б. Стих и проза в русской литературе. М., 2002; Орлицкий Ю. Б. Гетероморфный (неупорядоченный) стих в русской поэзии // НЛО. 2005. № 73.
[14] Тимофеев Л. И. Стиховедение // Литературная энциклопедия: В 11 т. М., 1929–1939. Т. 11. М., 1939. Стб. 62–63.
Разные принципы создания ритма. Системы стихосложения
Фонетически ритм стиха – это повторяемость каких-либо элементов во времени. Какие элементы будут повторяться – зависит от конкретной системы языка. Обязательным условием должно быть одно: фрагменты звучащего текста отделяются относительно долгими паузами, причем эти паузы не совпадают с членением разговорной речи. Эта пауза (большая межстиховая пауза) – важнейшее условие того, что речь будет восприниматься как стих. Собственно, «стих» – это и есть кусочек фразы между паузами. Это значение сохранилось до сегодняшнего дня. Когда вы прочитаете фразу «В стихотворении Пушкина в четвертом стихе мы видим…», то понимать ее надо «в четвертой строчке», поскольку в письменном тексте стихи, как правило, ассоциируются со строками.
М. Л. Гаспаров пишет об этом так: «Заданное членение на стихи – необходимый и достаточный признак стихотворного текста. Тексты, никакой иной организации не имеющие, уже воспринимаются как стихи (так называемый свободный стих) и приобретают характерную стиховую интонацию – независимые от синтаксиса паузы на границах стихов, повышение голоса в начале стиха, понижение к концу».[1] То есть фактически стих становится стихом благодаря тому, что его строение радикально отличается от нормы прозы. Графически это можно представить так.
Схема прозы:
----------------------------------------------------------------------------------//------------------------ //----------------------------------------------//------------------------------//---------------------------------
-----//----
Схема стиха:
--------------//
---------------------//
-------------------//
--------------------------//
-------------------//
Выше уже говорилось, что графическое оформление не может считаться важнейшим, а уж тем более единственным критерием. Важно то, что этим оформлением подчеркивается. Реальный стих не просто дробит речь на отрывки, но устанавливает «вертикальные» отношения между самими отрывками. Чем более упорядоченнымибудут эти отношения, тем отчетливее будет ощущаться стих. Принципы упорядочивания в разных культурах различны и зависят от общих норм языка. Однако в целом выбор не так уж велик: упорядочивающими факторами могут быть мелодика, ударение, высота тона, долгота или краткость слога, число слогов в стихе. Лимит возможностей на том фактически исчерпывается. Другое дело, что могут быть комбинации этих факторов, целиком зависящие от культурной традиции и особенностей фонетики.
Так, во французском и польском языках фиксированное слабое ударение не позволяет использовать его как ритмообразующий фактор. Все слоги приблизительно равны по длительности и ударению, поэтому фактором, который лег в основу стихосложения этих языков, стало число слогов в стихе. Это силлабическая (слоговая) система.
В древнегреческом языке звуки существенно различались между собой по долготе – ритм задавался чередованием кратких и долгих слогов – это метрическая (античная) система. За организующую единицу стиха принималась так называемая мора – время произнесения слога с краткой гласной, а долгий слог равнялся двум морам. Нечто подобное выдающийся лингвист Е. Д. Поливанов отмечал в восточных языках (кроме того, там важное значение имеет высота тона).
Если актуализируется принцип ударения, перед нами тоническая (ударная) система.
Дата публикования: 2015-09-18; Прочитано: 3564 | Нарушение авторского права страницы | Мы поможем в написании вашей работы!
